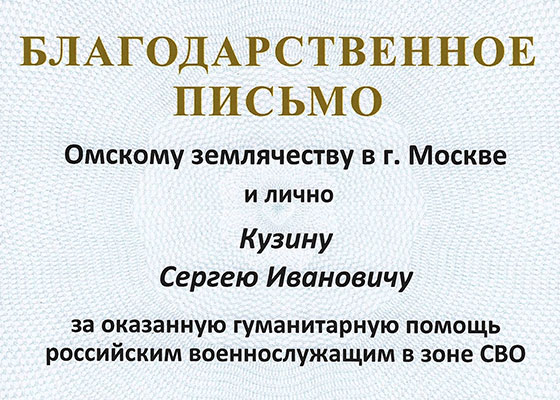Валерий Мурзаков – новые рассказы для библиотеки землячества
Известный на омской земле писатель и общественный деятель Валерий Мурзаков прислал в библиотеку землячества свои новые рассказы: «Первый снег», «Выходец», «Свадебный подарок», «Баклажан». Мы очень благодарны Валерию Николаевичу за новое пополнение фондов библиотеки и уверены, что новые рассказы, талантливо описывающие судьбы простых людей, с большим интересом будут восприняты нашими читателями.
Валерий Мурзаков.
Первый снег.
Николай проснулся как обычно рано, и не включая свет в комнате, босиком вышел на кухню. Крашенные половицы холодили подошвы, разгоняя остатки сна. Этот утренний выход был для него чем-то вроде зарядки. Он ощущал, как вместе с холодком и лёгкой дрожью проникает в него бодрость и чувство старческой осторожности. Николай вытянул перед собой руки, чтобы не удариться о косяк, пощупал босой ногой пол — не споткнуться бы ненароком о низкий порожек.
На кухне было светлее, чем в спальне и Николай, едва глянув в окно, понял, что выпал первый снег.
-Ну, слава богу, — тихо пробормотал он. Хотел перекреститься, но не перекрестился, только глянул на божницу в углу, где давно уже не было иконы. Её увезла в город сноха, чтобы украсить новую квартиру, которую они как раз в том году получали. Николай с Петровной возражать не стали, у молодых вся жизнь впереди, а им старикам и так ладно. С тех пор на божнице лежали старые письма, поздравительные открытки, всякие квитанции, и шахматы, подаренные Николаю за третье место в соцсоревновании не то после посевной, не то после уборки…
Николай уже точно не помнил, когда это было. Кажется, ещё до армии,после окончания районного СПТУ.
Играть в шахматы он толком так и не научился.
Николай и вспоминал-то о них, только когда его Петровна, затеяв большую уборку, почти каждый раз умудрялась шахматы рассыпать.Его всегда удивляло и смешило, как это у неё получалось.
Лежали шахматы на комоде, на скатёрке, которую при большой уборке Петровна снимала, чтобы стряхнуть на крылечке. И всегда вместо того, чтобы переставить шахматную доску на другое место, она упорно старалась вытянуть из под неё скатёрку. И каждый раз шахматная доска летела на пол, а фигурки раскатывались по разным углам.
Если Николай был дома, он терпеливо ждал, чем это закончится, а потом, слушая ругань Петровны, долго и весело хохотал.
— Выброшу я эту твою забаву. Умник, тоже, нашёлся! Ты, ведь, и играть-то не можешь… Спалю в плите. Истинный бог, спалю.- Петровна замахивалась на него скатёркой.
Так было пока Николай не поставил шахматную доску на божницу. Не то чтобы вместо иконы, а просто на свободное место. Там она и стояла долгие годы вдали от гнева Петровны и от проказливых ручонок подрастающих внучат. Потом на шахматную доску Николай поставил будильник.Правда, звонить будильнику случалось редко, Николай вставал всегда раньше и первым делом нажимал на кнопку.
Так он сделал и на этот раз, и, отодвинув на окне задергушку, посмотрел во двор.
-Слава богу,- повторил он,- хоть срам прикрыло.
И действительно, двор преобразился. Под пушистым снежным покрывалом исчезла побитая морозом, кое-как разбросанная по огороду чёрная помидорная ботва, сравнялись безобразные рытвины от выкопанной картошки.Кроме большого огорода за деревней, Петровна с ведро сажала ещё и при доме.
Малинник, обсыпанный лёгкими пушистыми снежинками, словно выпрямился и стоял бодро, и весело, как на параде.
Даже две уже голые яблони, ещё вчера такие одинокие, унылые и безнадёжные на фоне пасмурного неба, сегодня словно подросли, приподнялись над землёй.
Николай присел на лавку, на которой стоял бачок с водой, и согнувшись посмотрел в низкое окошко на небо. Небо было ещё тёмным, но таким ясным и чистым, что утренние звёзды казались вдвое крупнее, чем обычно.
-Будетпогода.–Подумал Николай, зачерпнул в эмалированную кружку воды из бачка, сделал несколько крупных глотков. Так он делал каждое утро, чтобы смочить пересохшее за ночь горло и закурить. Петровна не любила, когда он курил дома, и выгоняла его в сени. Но утреннюю сигарету он отстоял, и курил её натощак на кухне.
Петровна, если выходила из спальни до того как Николай в ведре под умывальником ещёне успевал погасить окурок, делала вид, что не замечала нарушения введённого ей распорядка.
Николай нащупал в припечке коробок со спичками, вытащил из начатой пачки сигарету, размял её и закурил. Первая затяжка всегда была сладкой, он старался еёпродлить. Медленно выдыхая дым, наблюдал как сначала расплываются в утренних сумерках дварыхлых бело-жёлтых кома, потом серое облако, и окружающие предметы приобретают привычные очертания.
На этот раз, глубоко затянувшись, двумя клубами выпустив табачный дым, он с наслаждением выдыхал его остатки и ждал, когда сквозь полупрозрачную пелену в проёме дверей появится Петровна. Но дым рассеялся, а вход в спальню продолжал глядеть одиноким сизым пятном.
Николай хотел затянуться ещё раз, но вдруг его больно кольнуло под сердце. Он сел на лавку, сжал в кулаке непогашенную сигарету, чтобы переждать внезапную боль.
В глазах сверкнуло, как от близкой сварки. К нему вернулось то чувство, которое теперь его часто мучило, то усиливаясь, то давая передышку. Это была тоска, о которой он
в детстве часто слышал в разговорах деревенских тёток и долго верил, что она действительномогла замучить человека до смерти.
С годами всем эти бабьи россказни, стали вызывать у него усмешку, особенно если про кого-то говорили, что он, де,заболелот тоски, или запил от тоски, или уж совсем, курам на смех, помер от тоски. На все эти глупости у Николая был один ответ: работать надо, от работы не затоскуешь… С этим он и жил. И вдруг. . .
* * * *
Полгода года назадНиколай похоронил жену, с которой прожили больше сорока лет. Похороны, поминки, приезд дочери, сына со снохой- всё прошло как будто мимо него, как наваждение, как дурной сон. Остались только горечь и боль в душе, истранное чувство, что не он перед Петровной, а она перед ним виновата. Жить с этим было тяжело. Для него оставалась одна отдушина, он продолжал мысленно разговаривать и советоваться с женой по ночам, будто она была жива.
Когда сын со снохой стали его звать к себе в город, Николай сначала было согласился, но потом, когда увидел, что сноха, убираясь в избе, подвязалась праздничной косынкой Петровны, отказался от переезда напрочь. Сын обиделся:
-У тебя, батя, на дню семь пятниц, то ты едешь, то не едешь. Я пока ещё не на пенсии, чтобы сидеть около тебя.
— Около нас,- неожиданно для себя поправил Николай сына, и добавил:
— Я на пенсии…
— Ты не обижайся, о тебе же думаем.
Николай промолчал.
-Молчи не молчи,- осторожно сказала дочь,- а решать надо.
-Решим… — сказал Николай неопределённо.
И дети уехали.
* * * *
Петровна умерла на бегу, как и жила. Всегда она куда-то торопилась, всё что-то не успевала. . .
Случилось это на главной деревенской улице, в середине дня. И первыми свидетелями печального события стали хромой инвалид Михаил Иконников и скотник Володя, который, пользуясь обеденным безлюдьем, вёз Николаю за полученный ещё вчера аванс, мешок комбикорма.
Николай после обеда пошёл в мастерские, которые уже не
работали, но он по привычке наведывался туда почти каждый день. Издалека увидев Володю, едущего в бестарке, Николай поднял руку, чтобы обратить на себя его внимание.
Володя махнул ему в ответ. Это означало, что он всё понял, что мешок с комбикормом надо перекинуть через штакетник у калитки. Дело это было уже хотя и распространённое, но не вполне законное, и Николай, ускорив шаг, пошёл дальше в мастерские, не оглядываясь.
Он не услышал, как размахивая руками, ему вслед кричат Володя, и оказавшийся поблизости, Михаил Иконников.
Николай был уже далеко, шёл быстро, ничего не предчувствуя.
Володя развернул меринка в сторону фермы, где его ждали два кореша, такие же, как он, со вчерашнего не похмелённые, и увидел, что впереди, как всегда, скоро шла Петровна.
Он придержал коня, недовольно бормоча себе под нос: «И куда бежит? Торопится, баба, как на тот свет? Не знает, поди, что там кабаков нет». Он недолюбливал Петровну за то, что у неё никогда нельзя было перехватить в долг, даже если у неё было. Никому за всю жизнь она не налилане то что стопарь самогона, даже бражки не плеснула опохмелиться.
Меринок перешёл на шаг, но расстояние между ними и Петровной всё сокращалось, а Володе очень не хотелось слушать её нотации, и подначки, на которые она была большой мастерицей. Не доехав до Петровны нескольких метров, он обратил внимание, что она идёт как-то не так, не то чтобы шатаясь, но шагает не очень уверенно, вихляя.
«Ты уж выбери, тётка, направление, что галсами-то ходить, так и под коня можно попасть»- подумал Володя.
Словно услышав его, Петровна, остановилась, иоглядываясь, решала, куда ей идти дальше. И вдруг, начала медленно оседать и, неловко повернувшись, упала лицом в пыль кювета.
Володя, спрыгнул с бестарки, подбежал к ней, стал поднимать. Петровна оказалась неожиданно тяжёлой и неподатливой. Он опустил её на землю.
— Кажется отбегалась, старая. Лежи теперь, отдыхай.
* * * *
Мысленно разговаривать с Петровной Николай начал в первую же ночь, после того, как отправил детей в город. Он не заметил, как это стало для него привычкой и даже перестал различать, во сне ли это с ним происходило или наяву. Главное, что это спасало его от одиночества и тоски.Ему начинало казаться, что настоящей жизнью он теперь живёт только, разговаривая с женой, а когда это происходит, во сне или наяву, уже не имело значения.
Молодые уехали с обидой. Это мучило Николая, правильно ли он поступил, не погорячился ли? И так как Петровна ему на этосразу не ответила, Николай засомневался. Жена всегда не сразу ему отвечала, если он был неправ.
-А сноха что, была права, когда праздничным платком, да ещё не своим, как фартуком подвязалась?
Я знаю почему ты молчишь, думаешь надо было отдать? А я, между прочим, не ей эту косынку дарил. Мужики, когда я её тебе покупал, меня обсмеяли, ты говорят, что, залётку завёл? Или в мусульманина перекрестился, так купи себе сначала стёганый халат, будешь этим платком его подвязывать.Но я промолчал, что с дураками связываться.
Я думаю, ты зря его берегла, надевала только на выход. Ты мне в нём нравилась. Что ты молчишь? Сноха может подумала, что мы жадные, что к ней плохо относимся? А как нам к ней относиться, если она в огороде ни одной травинки не выполола, курам зерна не бросила… Я помню, ты её гусей попросила пригнать, так она перепугалась: «А где я их, мама, буду искать?» Пруд из окна видно, а она, где их искать?
Конечно, это всё ерунда, но как мне одному жить, в голове не укладывается. Ты не думай, я без обиды. Тут не от нас зависит, родимся без спроса, и уходим не попрощавшись…
Но ты бы могла и пожить, и не болела, ведь… почти… А мне-то как без тебя? Ты, наверно, и не подумала? Да, что теперь… Конечно, это неправильно, когда баба раньше мужика уходит. Бобыль, он, ведь, как малый ребёнок… Или, как бомж.
Я и не готовлю себе почти, так всухомятку пожую, что попало, простоквашей запью.
Корову-то?.. Дою кое — как, дёргаю за сиськи, да видно не правильно. Она ногой меня бьёт… Не принимает. На днях подойник опять перевернула, зараза…
Ирка, соседка, говорит, давай, дядя Коля, я буду доить вашу корову, а то вы её угробите. Жалко, мол, животину, хорошая коровка и стельная.
А я так разозлился, зарежу, кричу, её к чёртовой матери. Она говорит, не бери, дед, греха на душу, у вас очень хорошая корова, удойная. Если тёлочку принесёт, мы её у вас возьмём.
Ну, я согласился, пусть доит. Так мужик её, дурачок убогий, приревновал. У нас внучка как раз в школу пошла, когда он родился. Я думал, он смехом, а он всерьёз. Раньше, соседка приходила доить утром и вечером, а теперь только утром доит. Я не спрашиваю, знаю в чём дело, а она стесняется сказать напрямую. Если, говорит, корова в запуске, то можно и один раз. Я то понимаю, что к чему, но молчу.
Как ты думаешь, может отдать корову соседям? Соседушка наша уже с большим брюхом ходит,вот-вот родит. Не знаю кто вперёд, она родит, или наша корова отелится.
Лёшка-то у неё совсем с катушек съехал,а, ведь, рос хорошим парнем, из армии пришёл, любо-дорого посмотреть. Ты помнишь, как на свадьбе он плясал? Артист, да и только… А теперь что? На твоих глазах всё произошло, сначала рюмашки, потом стакашки, самогон из горла, тройной для запаха. А когда «Роял» задарма начали продавать, вообще, за год – два, половинунеплохих мужиков в деревне, как корова языком слизала… Наше поколение ещё держится, а молодёжь под корень вырубают… Но, душа моя, не нам с тобой об этом думать. Наше время прошло, мы своё отпахали. Я тебе про корову, чтобы отдать соседям. Ты ведь знаешь, что у них в огороде, как в пустыне Сахара. Только саксаул не растёт.
С детьми я, само собой, посоветуюсь, мне главное твоё мнение. У меня какая-никакая пенсия, дети наши в городе тоже вроде пока не голодают, раз глаз не кажут. Не знаешь, что сказать? Ну, и не говори, подумай…
У меня к вечеру голова тоже хуже соображает и уставать я стал. Придремлю я что ли, Петровна? Может приснимся друг другу… А помнишь, как мы на свиданки другу бегали? День на покосе, или на пропашных, а потом на площадку перед кубом, на танцы…
Я хоть и не танцевал, но на тебя любовался. За тобой многие пытались ухлёстывать. Наперебой тебя танцевать приглашали. Правда, всё больше пацаны из старших классов. Ровесники мои и танцевать-то толком не умели. Сидим, бывало, на скамейках вокруг площадки, дымим, треплемся, и каждый за своей, у кого она есть, приглядывает. Я любуюсь тобой, любуюсь, да, бывало, и приревную. И глоток-два самогонки из горла хлебну для настроения, если кто из корешей принесёт.
Сам-то я никогда не приносил, у нас дома не гнали, отец, свёкор твой, строгий был мужик, ты знаешь.
Глотну, вроде припечёт в груди, ну, думаю, всё тебе скажу… А что я хотел сказать, теперь и не припомню, да, кажется, и не сказал ни разу. Помню только, что никак не мог дождаться конца танцев. А дождусь, наконец, какие тут упрёки… Возьму тебя за руку, сердце колотится так, что на всю улицу слыхать… Идём молчим.
— Опять от тебя самогоном несёт?-Спрашиваешь.
Я молчу. Пол дороги идём молчим. Потом ты высвобождаешь свою руку и говоришь: «Ладони у тебя твёрдые, как копыта. Вся рука занемела. Не железо же держишь». Мне бы что-нибудь сказать, пошутить или обнять тебя, что ли, но я молчу, как дурак. Ну, потом мы всё равно обнимаемся и так до самого утра, пока светать не начнёт. Ты спохватишься.
-Меня батя убьёт!- И бежишь такая лёгкая, красивая… А я гляжу тебе вслед. Сколько было таких дней, помнишь? Я все помню.Жаль, что недолго мы с тобой продружили. Меня после наших свиданок мать никак на работу разбудить не могла.
Ругается, ты говорит уже перестарок, до армии гулял, да и после армии неведома где болтался. Или женись, или кончай девке голову морочить… Нравилась ты ей.
Нравилась ли ты мне? Спрашиваешь… Что тут говорить, сама знаешь…
Мы, и правда, после армии с дружком подались на стройку. Устроились бетонщиками. Зарабатывали неплохо, и жили на широкую ногу. Без пива за стол не садились. В выходные само собой…А потом скучно стало. Не моя это работа, да и жизнь не по душе. Я сельский парень, сама знаешь.Я тебе об этом не говорил? Что я сельский? Это и так за километр видно.
Я тогда хорошо приоделся, и целый чемодан подарков привёз. Отцу с матерью, и всей родне тоже.
Ну, и загулял, как дембилю положено. Ни одной деревни в округе с друганами не пропустили. Пили и дрались, дрались и пили. Однажды, привезли меня дружки домой на телеге в усмерть пьяного и крепко побитого, всего в синяках. Мать, как увидела, сознание потеряла. А отец, рассказывали, посмотрел, и говорит друганам, спокойно так, оттащите его в сарай, бросьте на солому, там он быстрее отойдёт.
Об этом, говоришь, тоже я тебе не рассказывал. А зачем, родная? Ты же меня узнала уже совсем другим, и любил я тебя, и за сорок лет ни разу не сорвался, тебя не обидел. И жили мы с тобой, душа в душу, без скандалов, дружно, позавидовать можно. И дети у нас вышли хорошие, жаль только, что не захотели остаться с нами в деревне.
Ты считаешь, что я зря к сыну не поехал. Что там было бы мне легче, что мужику вообще одному нельзя жить, особенно старому, такому как я. Здесь ты права, и я полностью с тобой согласен. Потому и остался, чтобы быть с тобой и чтобы было, как при тебе.
Вот и сейчас, пойду на улицу, покурю на крылечке. Ты же всегда ругалась, если я вечером, бывало, дома закуривал. « Что ты дымишь, как паровозная труба, на ночь глядя? Тут за день так находишься, что и без твоего табака не отдышишься». Так ты меня ругала. Оно, конечно, и правильно.
Какой же ты была работящей… И всю жизнь на разных работах, и всё бегом. А, ведь, десятилетку закончила. Это само собой, что дети не спрашивают, кто сколько классов кончил. Но работала же в яслях нянечкой, а могла бы и на воспитательницу выучиться.
Да, я не упрекаю тебя, моя хорошая, господь с тобой. Жалею… А перед самой пенсией зачем пошла на почту, газеты по деревне таскать? Что, кроме тебя было некому? Вот и добегалась, оставила меня одного… Не обижаюсь я. Скучно мне без тебя, Дуся…
Пойду я подымлю. Полушубок накину, не забуду. Не простыну. Меня уже никакая зараза не берёт. Кашляю? Это от табака. Зачем, говоришь, на холодное крыльцо сел? Дак, я край полушубка под себя подсунул.
Точно, к ночи подморозило, как я тебе и говорил. А небо какое ясное и звёзды прямо с кулак. И мигают. Может это ты мне подмигиваешь? Сказки, думаешь, это? А я так не думаю.Это не имеет никакого значения? То, что я с тобой разговариваю, тоже сказка? Ну, вот видишь… Я тоже так считаю.
Пойдём, что ли на седало, так, кажется, я раньше тебе говорил?
* * * *
-Соскучилась? Как я? Скриплю помаленьку…
-Работы много?
-А когда её было мало? Смысла совсем не стало, вот в чём беда… Расползается всё, как старое рядно… При тебе же весь этот бардак начался. Вот, и не выдержало твоё сердце. А болтают, что бабы сильнее мужиков. Брехня, я думаю, всё это. Смотря у кого какое сердце… Ты вечно за всех переживала, всех тебе было жалко…
Может и богтебяпожалел, не дал тебе всего этого увидеть. Меня, вот, не пожалел. Пусто без тебя совсем.Вспомню, как у тебя любое дело горело в руках, и в горле запершит, вот-вот заплачу.Смолю сигарету за сигаретой. Одну горечь другой перебиваю.
Телевизор, говоришь, смотреть, отвлекаться.Я при тебе-тоего не смотрел, пропади он пропадом, это ты была у нас любительница… А тут как-то его включил, задумался, глядь, а он погас. Я ручки покрутил, не зажигается. Я занавесил его вышивкой, которую ты сделала, она мне очень нравится. На кой мне этот телевизор? Мне с тобой и без него не скучно.
Хозяйство стараюсь не сокращать, чтобы было, как при тебе.Только работой и спасаюсь. Картошка нынче удаласьна славу. Ты помнишь, как мы по весне на десять соток размахнулись. Оно хоть и по паханному, но десять соток для нашего возраста тяжеловато.
Спасибо, Мишка на коне семена подвёз. От нашего дома до поля километра полтора, пожалуй будет. Если на себе таскать, за три дня бы не управились, а так мы в один уложились.
Ты тогда так умоталась, что ужинать не стала.А всё из-за своего упрямства, я же тебе говорил, давай я буду лунки копать, ты картошку бросать. А ты упёрлась, что было с тобой делать?.. Не жалела ты себя, деушка, ни о себе, ни обо мне не думала…
…Про хозяйство я тебе сказал, не подумав. Я бы, конечно, его не сокращал, но чувствую, что одному без тебя мне никак не потянуть. Представляешь, для пробы выкопал на нашем поле три лунки, с каждой почти полведра, и каждая картошка с кулак… Ведро самой крупной набрал в мешок, остальную пришлось на поле оставить. Можешь прикинуть, это с десяти соток тридцать мешков, само мало. Представляешь, как бы мы с тобой порадовались! Тут бы и скотине, и детям, и нам… Я чуть не заплакал.
Сын, недавно позвонил. Говорит, картошка это хорошо, мол, с детства нашу картошку помнит, за уши, мол, не оттащишь. Но, куда, говорит, мне её? Где хранить? Тут, мол, три килограмма из магазине на неделю жена принесёт, и то половина успевает задрябнуть. Да, и времени у него совсем нет, на хозяина теперь работает, а тот отпуска давать не любит. Особенно без содержания.
Рассказывает, что у них на работе у одной женщины ребёнок заболел, попросила она три дня, так хозяин её уволил. И его, мол, понять можно: у неё дети, а у хозяина тожепричина, бизнес. Сравнил, понимаешь… Так, что извини, мол, батя, прости.
Так-то, моя хорошая. И вообще, говорит, пора тебе заканчивать с хозяйством, тем более, что колхозы уже практически своё отжили, и переезжать к нам в город. У нас, мол, квартирка хоть и небольшая, но в тесноте, да не в обиде. А если удастся продать наш деревенский дом и всё хозяйство, то можно и обменять на площадь побольше. Вот так, моя родная, но ты не расстраивайся, никуда я не поеду…
— А про мать-то что, не вспомнил?
-Как не вспомнил, только начал про тебя и телефон оборвался, беда с этими телефонами, особенно с мобильными…
-Откуда у тебя мобильный?
-Я на почту ходил, там у них никогда порядка нет.- Соврал Николай и застыдился. Почувствовал, что Петровна всё поняла и долго молчал, не зная, как продолжить разговор.
-Ты за детей не переживай, а картошку я придумаю, как убрать. За пару бутылок найдутся желающие, и выкопают и домой доставят. Ты считаешь, что мало за такую работу? Так ведь не самогонки же. В магазине куплю. На закусь добавлю, и сало у нас с прошлого года лежит, пусть хоть всё забирают. Опять же, куда нам столько картошки? Если дети отказались.
Поросёнка я заводить не хочу, с ним возни много. Особенно если из под свиноматки брать. Вообще-то, ты у насэтим всегда занималась. Я только убирался. Опять же, резать надо, потом мясо продавать. А с потрохами, как быть? Я, конечно, свою колбасу люблю, её с магазинной не сравнишь. Но как её от начала до конца делать, я не в курсе. Ты же меня не допускала. На подхвате, я всегда пожалуйста…В общем, со свиноводством завязываем.А что ты всё про детей беспокоишься, если бы им было надо, нашли бы время помочь. Я всё понимаю, что город есть город. И забот у наших ребят выше крыши. И про дочку тоже, согласен. Ей уже за тридцать, а семьи всё нет.
Ладно, заведу я поросёнка. У Пономарёвых свинья недавно опоросилась, возьму поросёнка у них, если не раздали.
Вот так у нас всегда, то дети, то скотина, про колхоз не говорю. И не помню, чтобы мыдруг другу жаловались.Жили как-то, с интересом жили. А теперь умолодых ни работы, ни интереса, и не знают, куда себя деть. Живут ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
А я знаешь, о чём больше всего жалею, что мало тебе внимания уделял. Помню, тебя колхоз, когда ты нянечкой работала, наградил бесплатной путёвкой в санаторий. Помнишь, в нашей же области санаторий был, от нас-то километров сто.
Специально для тружеников села. Ты так обрадовалась, собираться уже начала, а я упёрся: никуда не поедешь! Добро бы на море, говорю, а то если колхозница, так на тебе, чего похуже. Так сказал. А в самом деле приревновал тебя, дурак! А ты хоть бы слово. Как вспомню, сердце сжимается. Прожила со мной всю жизнь и ничего хорошего не видела.
Ты говоришь, не переживай, всё у нас было ладно. А я знаю, что не всё. Знаю, что с тридцати лет на спину жаловалась, и ноги у тебя смолоду болели, и валерьянку ты часто пила. Я, ведь, всё это видел и мог бы тебя поберечь, в город к врачу отвезти. Если бы во время подлечивалась, то и пожили бы с тобой и поработали бы ещё. Я когда с тобой работал, у меня всё лучше ладилось, как-то хотелось показать, какой я у тебя на все руки мастер. А ласковое слово боялся тебе сказать, всё чего-то стеснялся. Не особенно мы к этому были приучены…
Ты говоришь, меня тоже не часто хвалила, зато бывало так посмотришь и руку на плечо положить… Да что там… Ночью, бывало, проснусь, а ты рядом спишь, дышишь тихо, и так мне тепло и хорошо, спокойно…
Сегодня, вот, встал, закурил, сижу, жду тебя. Думаю, сейчас выйдешь, пошлёшь в сарай за дровами. Растапливай, скажешь, плиту, не май-месяц на дворе, холодно в избе и пол холодный. Жду, когда выплывешь, начнёшь меня точить за то, что курю натощак… Даже весело как будто стало, жду… А тут в сердце так кольнуло, насквозь прямо. И молния по глазам.
Вспомнил, и думаю, лучше бы совсем не просыпаться. Сижу, в трусах, ноги и в самом деле замёрзли. Но сиди, не сиди, надо одеваться. Пойду в стайку, посмотрю, как там наша комолая себя чувствует. Может отелилась без меня. Приду, а она, бедная, теля облизывает, а послед некому выбросить. Вот такая жизнь, родная! Уже, вроде, и жить не к чему, а всё канителюсь.
* * * *
-Говоришь, что уже не вспоминаю я тебя. Что ты, хорошая моя, только о тебе и думаю… Нет, корова пока не отелилась. Тут другое. Ирка, соседка наша, рожать надумала. А Лёшка, как всегда, в загуле. Она его подождала, помучилась, помучилась и кое как, где пешком, где на корячках, подалась к Морозовым, у них машина есть.
Они отвезли её в район. У нас, сама знаешь, рожать негде. Бабки-повитухи повымерли, а ФАП при тебе ещё закрыли. Как родила, спрашиваешь, да вроде всё в порядке. Но с недельку, ей сказали, с малым в роддоме точно придётся полежать, а там, как получится. Лёшка её такое отчудил, что его убить мало. Несколько дней был в загуле, где-то шлялся, домой пришёл не один, чтобы Ирка меньше ругалась.
Узнал, что жену в роддом увезли, и на радостях, с пьяной дури, с корешем раздобыли в долг трёхлитровую банку самогонаи всю выжрали под солёный огурец с капустой.
Какой же организм может такое выдержать, да если ещё на старые дрожжи? Заснули оба, и случился пожар. Ирка, потом рассказывала, что перед тем, как к Морозовым идти, она печку протопила, и трубу не закрыла, значит не угорели и не от печки пожар. Кто-то из них уронил окурок.
Это к следователю не ходи. Кореш оказался покрепче, да ты его знаешь, зять механика МТМ, выполз пораньше, и со страху убежал. Где-то в коровнике прятался. А наш пострел чудом спасся, проснулся, когда штаны на заднице сгорели. И сам весь обгорел. И руки и ноги… Говорят, под коленями у него какие-то связки полопались.
В общем, жить будет, а танцевать- вряд ли. А дом? Что дом? Печка с трубой, как в кино про войну, и чёрные головёшки из снега торчат. Знает ли Ирка? А как же, народ унас добрый, как такой радостью не поделиться. Нашлась сволочь. Сразу Ирке сообщили. Не пропало ли у неё молоко? Насчёт молока не знаю. Здесь хуже дело. Выйдет баба из роддома, куда ей с грудником деваться? Колхоз, говоришь, должен был бы помочь. Да, какой теперь колхоз? Которого нет? А люди что? Люди, конечно, остались…
…Домов пустых навалом. Толькоодной крыши над головой мало. Надо на чем-то спать, что-то постелить, накрыться, и малышу место устроить , и купать надо ребёнка, да и кормить. Всё мы с тобой правильно понимаем.Возьму-ка я их на время к себе, потом родня какая-нибудь найдётся. Доживут у нас, хотя бы до лета, а дальше как-то образуется. Ты как? Не против? Разве я сомневался? Просто спросил.
Редко мы стали с тобой разговаривать? Так забот-то прибавилось. Тут к Ирке в район надо съездить, поддержать её, подкормить, и ещё корова. Всё сразу на мою голову.
-А как же я, бывало?
-Не знаю. Для тебя это дело привычное. И детей и внуков вырастила, а я что, я всю жизнь второй номер. Не думал, что на старости лет придётся новую профессию осваивать. Да ещё одному, без тебя. У Ирки хоть роды не принимал, слава богу. А с коровой замучился. Послед выбросил, а с пуповиной не знаю что делать.
-Справился?
-Кое как, с божьей помощью…
-Ирку когда выпишут?
-Через неделю обещают, не раньше. Я с телёнком пока занимаюсь. Ну, как? Подпускал сперва к корове, а теперь дою, кормлю его из подойника, с пальцев. Сосёт, аж хрюкает. Вот, сейчас пойду к ним, уберусь. Комолой комбикорма запарил, свежего сенца брошу. Слышала бы ты, как она ревела, когда дом загорелся. Животное, а соображает лучше человека. За своё дитё переживала. Понятно, что стайка не рядом с домом, но головёшки во все стороны летели. И дым она чуяла.
Пока не забыл, ты, кажется, первые распашонки от детей и внуков где-то прибирала. Найду. На пелёнки кладовщица старых простыней обещала дать. Как откуда? А студенты на уборочную, что со своей постелью приезжали? Не списала, почему? Не знаю, почему. Это ты у нас законница. Может и правильно кладовщица сделала. Раньше всегда для погорельцев миром собирали.
-Так своё отдавали.
— Ясное дело, не колхозное. Кажется за мной приехали. Собрал Ирке маленько, и соседи принесли. И Лёшке тоже отвезу чего-нибудь, сала что ли, да банку огурцов солёных, пусть не забывает, что, натворил, подлюка.
* * * *
-Не поверишь, сижу один с малым, лежит он у меня на коленях, пузыри пускает. Где Ирка? Помчалась в район, навещать любимого муженька. Соскучилась, наверно. Не поймёшь вашего брата, он и пьёт, он и бьёт, он и гад, но он хороший.
-Не поймёшь, и ладно. Ты лучше скажи, накормила она пацана, перед тем, как ехать?
-Наверно, накормила, раз молчит. И не мокрый, вроде. Я покане чувствую. Она собиралась ненадолго, одна нога здесь, другая там. С машиной я договорился. Сосед обещал за час обернуться. Да, похоже, уже приехали. Поговорю с ней. Как они житьдумают? Квартиру мы с тобой им обеспечили. Ну, ладно.
-Как они питаться собираются?
-Я кормить их со своей пенсии не собираюсь. Да, какую мы, колхозники, пенсию получаем. Стыд один. Впору, курить бросать. У Ирки, в соседнем районе, вроде, мать с отцом живут, или одна мать, точно не могу сказать.
А малец-то без неё за всё время и ни пискнул не разу, точно понимает. Ты говорила, они всё понимают. Может быть. Наш точно молчит, как партизан, только поёрзал маленько, видно не очень ему ловко на дедовых коленях. Кажется,Ирка шуршит в сенях. Потом расскажу, как она съездила, и что они со своим благоверным надумали.
* * * *
-Не знаю, с чего и начать. Ирку о чём не спросишь, она только плечами пожимает и слезы из глаз начинают ручьём бежать. Я её стараюсь успокоить. Давай, говорю, супец тебе молочный сварганю. Молока у нас теперь, хоть залейся.
Бурёнка, как чувствовала, отелиться подгадала. И крупами ты, как на войну, запаслась. И в кладовке крупа, и на кухне крупа. Кому ты её запасала? Ты же знала, что я кроме гречки никакую кашу не ем. А гречку-то, как раз, я и не обнаружил. Хорошо хоть по трёхлитровым банкам ты крупу дагодалась рассыпать, а то в мешочках в крупе всякая живность заводится.
-А то я без тебя не знаю.
-Знаешь, не знаешь, а, вот, сварил бы я девке плов с тараканами.
-Ты, Коля,что-то раздухарился. Только песни не поёшь.
— Какие, Дуся, песни? Грустная у нас песня, одна на двоих. А один я и петь не умею…
— Да, я Коля, всё я понимаю.
— Не про-то ты.
-Про то, про то. Живой о живом и думает. Иди, вари девке кашу, манную на молоке с сахаром, и с маслом. Или пусть она сама себе сварит, у неё лучше получится. А ты дровишек наноси из сарая. Ребёнку тепло нужно. И воды нагрей. Ты, поди, уже всё перезабыл.
— Я при тебе, моя хорошая, не шибко во всё это вникал. А теперь поздно уже. Дождусь Лёшку, и уеду к сыну, пусть молодые сами хозяйствуют, опыта набираются.
* * * *
— Топчусь, Дуся, с утра до ночи. Бабки деревенские заходят малыша посмотреть, хвалят. Говорят, повезло Ирке. А он такой хитрец, если кто чужой зайдёт, сразу замолкает, тихо лежит, а то и совсем заснёт. Может, его Лёшка ещё в брюхе материном, когда с дружками пьяными заходил, напугал.
А девка ни сна, ни продыха не знает. Ночью пацан не спит почти совсем. Днём тихий, а ночью даёт дрозда. В отца, наверное, пошёл тот тоже по ночам куролесил, а днём отсыпался. Я только сейчас понял, как трудно с малыми-то. А раньше всегда казалось, что дети сами растут. Хотя, конечно, что-то в этом вопросе и на мою долю перепало. Сына, кажется, за всё время раза два выдрал. Не помню уж и за что.
-Ты не помнишь, а я хорошо помню, мелочь у тебя на мороженное вытащил мальчишка. В магазин колхозный, в кое-то время, привезли мороженное. Не утерпел ребёнок. Ты хоть помнишь, как он кричал… Папочка не надо, не надо, я больше никогда не буду… У меня сердце разрывлось. А чем ты его бил, не помнишь? Нет, не ремнь из брюк достал. Ты от берёзового бастрика отломил прутик и хлестал его по голым ногам. Летом дети у нас в трусиках ходили, если ты помнишь. Он орёт, а ты, остановиться не можешь. Я хочу крикнуть, а у меня горло спазмом перехватило… Если бы у меня было под рукой что-нибудь тяжёлое, я бы тебя убила.
-Крепкая у тебя память, Дуся. Что ж ты так долго плохое в памяти держишь. Неужели бы убила?..
— Не знаю. Если бы тогда яс Аннушкой не ходила, бросила бы тебя. На пятом месяце я уже была, побоялась.
* * * *
— Время бежит, завтра Лёшку выписывают. Хотели ещё с недельку продержать. Ожоги подлечили,а ходить толком не может, передвигается кое-как на заднице.
Я ей говорю, пусть бы ещё полежал, зачем ты его тащишь? Он ведь тебе не помощник, за ним, за самим уход нужен. Ирка сначала надулась, а потом говорит, вы, мол, поймите уже три недели прошло, он ребёнка не видел. И, главное, ребёнок его тоже ни разу не видел.
Смехота, да и только. Сегодня с самого утра прибиралась, и сама чепурилась перед зеркалом. Нашла там у тебя какие-то мазилки, может сноха оставила. Я и не знал об их существовании. Как, говорит, деда Коля, я выгляжу? Хорошо, говорю, можно замуж отдавать.
Брякнул, понимаешь, не подумав, а она обиделась всерьёз. Весь день молчала. Как на родственника, понимаешь. Такие дела, Петровна. Из соседа в родственники произвели. «Деда, дай ему пустышку… деда,посмотри, почему он заплакал, не мокрый ли?»
И что интересно, со мной Ирка по-разному разговаривает. Если по хозяйству, то сосед, дядя Коля, и на « на вы», а если про сынка, то деда и на ты. Я уже начинаю путаться, кто я им сосед, или родня. И действительно, начинаючувствствовать себя дедом, будто не Ирка, а дочь наша родила этого малыша, а мы с тобой его родные дед с бабкой.
Переживаю, что до сих пор ребёнка никак не назвали и тебя ругаю, моя хорошая, будто ты затянула это дело. А к пацану, действительно прикипел, как, родному. Он спит, я подойду на него взглянуть, а он как чувствует, откроет один глаз и смотрит на меня. Внимательно так, будто спросить что-то хочет.
Если бы у нас с тобой сейчас внучёк появился, как бы мы его баловали.
* * * *
— Не знаю, смеяться или плакать. Привезла Ирка Лёшку в больничном халате. Всё рваньё обгорелое, понятно, в больнице выбросили, а другой одежды для таких артистов, как наш, не предусмотрено. Костелянша где-то раскопала ему списанный байковый халат. Рукова Лёшке по локоть, пуговиц нет, пояса тоже нет. Прибыл, бинтом подпоясанный и больничные тапочки на босу ногу. Чучело огородное, да и только.
Зашёл в дом, со мной не поздоровался и прямо к малому. А тому такой батя не понравился, закуксился, забеспокоился, даже как-будто испугался. Ко мне-то он уже привык, на мой голос гукает, и даже улыбнуться пытается…
Лёшка оторопел. Не знает, что сказать. Ирка подхватила ребёнка на руки: “Он к тебе не привык ещё. Я ему каждый день про папку рассказывала, вот,мол, приедет папка.” И всякие сладкие слюни. А Лёшка, как рыба на берегу, рот разевает, сказать ничего не может.
Бинт на поясе развязаля, а он что дальше делать, не знает.Я ему из своей одежды кое — что нашёл. Не по размеру, правда, но на первый случай сгодится. Думаю, надо снять маленько со сберкнижки, приодеть этого бедолагу и, вообще, как-то им подмогнуть. Смотрят оба на меня собачьими глазами, сил нет это видеть. Может вся эта беда прибавит Лёшке ума. Он, конечно, придурок, но не дебил же окончательный. Что-то в нём нашла же Ирка, и сам уже отец, не мальчик. Ты то, как на это смотришь? Я тебя знаю, думаю, что ругать меня не будешь.
* * * *
-Хорошая моя, все эти дни я в заботе и в переживаниях. Задумала Ирка покрестить малыша, сколько, говорит, будет он жить без имени и без божьей защиты? Хотят завтра ехать в район в церковь. А меня просят быть крёстным отцом. Вот и волнуюсь. Я не знаю, сам-то я крещёный или нет?
Дети наши, точно, не крещённые. А меня в крёстные отцы. Но Ирка говорит, это не имеет значения. И хотят сынишку назвать Николаем. Говорят у меня хорошее имя, в честь святого Николая- Угодника. Я им говорю, я то, мол, действительно Николай, только не угодник, а колхозник. Ирка смеётся. Вот такие наши новости, родная. В город я решил не ехать, куда я от тебя… Жили вместе и лежать, время подойдёт, будем рядом.
Валерий Мурзаков
ВЫХОДЕЦ
Отработав десять лет на кузбасских шахтах для получения льготной пенсии, Николай Рымарь вернулся в родной город. Через блат и большие мучения они с женой построили однокомнатную кооперативную квартиру и тогда решили обзавестись дитем. Но оказалось, уже поздно. Рымарь сильно загоревал и стал подозрительно смотреть на жену. И смотрел так до тех пор, пока она не принесла ему справку от гинеколога о том, что у нее все в порядке и что она и в сорок лет готова стать хоть матерью-героиней. И дело только за ним.
— Видно, застудился я в шахте,— подвел горестный
итог Рымарь.
— Ты бы шел проверился, может, можно подлечить-
ся как-то,— советовала жена.
— Чего попусту,— безнадежно махал рукой Рымарь.— Высосал уголек из меня все соки и всех деток моих забрал.
— Может, и не от этого,— успокаивала его жена. —
Может, так, по природе.
— По природе, — сердился Рымарь и начинал перебирать свою родову, у кого, сколько было детей. И оказывается, что Рымари всегда были плодовиты. И в деревне, откуда они были родом, одна улица сплошь состояла из Рымарей.
— А вот Глушаковых было раз-два, и обчелся.
. — ибрался, и начало меня гианки. По количеству банок можно было судить, сколько дней продолжается лежка. ть запоем, прерываПри чем здесь это? — обижалась жена.
— Ну да. Это здесь ни при чем, — со вздохом соглашался Рымарь.
— Что ты убиваешься? — снова начинала его успокаивать жена.— Я баба, и не убиваюсь, а ты мужик и прямо-таки испереживался.
Она перетерпела тот возраст, когда от запаха грудничка могла упасть в обморок. Теперь от детей она быстро уставала, а детский плач вообще ее раздражал.
— С чего ты взяла? — оправдывался Рымарь.— Без них спокою больше. Проснешься в субботу и лежи хоть до вечера, и никакой тебе заботушки.
И действительно, спали они по выходным долго, до отеков, а потом бродили по магазинам или занимались квартирой. Ее они обихаживали постоянно. На это уходила вся их энергия, и в этом, казалось, заключалась их цель пребывания на грешной земле. Даже на личные удобства они смотрели, прежде всего, с той точки зрения, а как это соотнесется с идеалом квартирной обстановки, который они для себя создали.
— Хорошо бы диван заменить и поставить две деревянные кровати,— говорил Рымарь,— а то лежишь на этом диване, как циркач на канате, того и гляди на пол свалишься или тебе под бок закатишься.
— Ко мне под бок можно,— игриво говорила жена.
— Летом жарко, — серьезно возражал Рымарь. — А вот две бы деревянные составить, так куда с добром.
— А люди придут? Где принять, если мы из зала сделаем спальню? А, Коля? — жена обнимала Рымаря.
— Да, когда к нам ходят? Раз в год, по обещанию. Аникины приходили аж прошлой зимой, а больше никто и не был.
— Значит, все же приходят? Но не в этом дело. Ты оглянись, Коля, как тут все к месту. И ковер, и стенка, и журнальный столик, телевизор… И диван, как тут и был, — она поправляла на нем накидушку. — И все в тон. А если кровати поставим? Это только поперек комнаты. Тогда как телевизор смотреть? Не глянется мне твой план, Коля. Совсем не глянется.
Рымарь придирчиво осматривал комнату и соглашался. Действительно, если диван заменить, то будет уже не тот компот. Он точно, как здесь и был, У его Нюрашки на это дело нюх.
— Тогда давай раскладушку мне купим,— говорит Рымарь, чтобы последнее слово осталось за ним, за хозяином.— Летом буду спать на раскладушке.
— Вообще можешь домой не приходить, если я тебе надоела.
В последнее время с женой Рымаря начало что-то происходить. Временами она вдруг болезненно стала его ревновать. Даже сама себе удивлялась, в молодости не ревновала, а теперь вот начала. Ей почему-то казалось, что Рымарь не поверил справке, что у нее все в порядке, и теперь ходит по бабам, проверяет. А иногда чуть ли не въявь ей виделось, что у Рымаря на стороне есть ребенок, и он от нее это скрывает.
— Ну, все, включила циркулярку, теперь не остановишь, — ворчливо говорил Рымарь, хотя ревность жены не только его не угнетала, но даже была приятна. Когда долго ничего подобного не происходило, он и сам, бывало, начинал подбрасывать в огонь полешки.
— А вот, когда ты делала аборт, — вспоминал он эпизод двадцатилетней давности, — так от меня ли?
— От соседа, — говорила жена, и на поблекших щеках нее проступал румянец, она как будто молодела в этот момент и испытывала не только женскую гордость, но и смущение. И Рымарь, который говорил это для заводки, вдруг сам начинал верить в свои подозрения, чувствовал, как ныло в груди и, как в молодости, тосковала душа. Он мрачнел и почти заболевал.
— Да кому я кроме тебя нужна? — жалела его жена. — Почему? Для баловства, вполне,— говорил он, оглядывая ее отяжелевшую фигуру, и добавлял:
— Ну, Нюрка, если бы узнал…
— И что бы было? — допытывалась жена, подозрительно розовея лицом.
— А вот тогда и узнаешь,— Рымарь хмурился и не знал уже, чему верить: словам ли жены или ее смущению. «Черт их, этих баб, разберет»,— думал он, постепенно успокаиваясь.
— Ты бы меня на работу к себе взял, — воспользовавшись, случаем, просила жена.
— Ну да, тебя там только не хватало,— машинально отмахивался Рымарь, этот разговор поднимался не в первый раз и уже ему порядком надоел.
— Боишься, что на глазах будешь?
— Ничего я не боюсь. Ты говоришь, как будто я директор, захотел — принял, захотел — не принял. Нашла чистую работу, так и держись за нее.
— Думаешь, приятно бумажки перекладывать да в мои годы быть на побегушках. Нюра, сбегай. Нюра, ты у нас не очень занятая, и на прополку тоже Нюру, как штатную… А Нюре полсотни доходит. И ведь никакой гад не пожалеет. Даже муж родной…
Рымарь молчал. Несколько лет назад через знакомого он устроил жену в одну контору на сто десять рублей, и она сначала была довольна. До этого она работала на механическом заводе, мыла в керосине детали, и начала ее мучить экзема. Врачи сказали, что работу надо менять. И действительно, вскоре после того, как она ушла с завода, руки начали подживать, а потом совсем очистились. И Нюра радовалась.
— Не нужны мне ихние две сотни. Мне и сто десять хватит, а то уж думала, от этой парши до смерти не избавлюсь.
— Здоровье дороже всего, — философски заключал Рымарь и гладил на руках жены новую кожу, которая стала гладкой и нежной, и казалось, через нее можно было увидеть, как у его Нюрашки по жилкам бежит кровь. Он жалел жену, но что он мог поделать, — в проектном институте, где он работал, действительно, как-то требовалась кладовщица. Но это когда было? Больше никакой работы, подходящей для его Нюры, у них не было. А кладовщицей, конечно, можно было бы, но зарплата ерундовая и материально ответственное лицо. Не дай бог, что случится, она у него доверчивая. Да, и что значит вместе работать? Нюрашка думает, как в цехе на заводе, она детали керосином моет, а он через десять метров за станком стоит, в ее поле зрения. У них так не получится, Рымарь относится к «детям подземелья», работает в подвале института, а склады во дворе… Обедать будут ходить вместе? Так они и сейчас оба на обед домой ходят, слава богу, недалеко работают. Так что выгоды, можно сказать никакой. И на сельхозработы у них посылают.
— Ты, Нюра, им спуску даешь,— говорит он строго.— Они к тебе, а ты их посылай. Вот как я.
— Тебе легче — ты мужчина.
— Ну, ты не так, чтобы… Ты культурно. Вот как я. Я не знаю, кем там я у них числюсь. Но фактически я токарь и мое рабочее место у станка. Станку этому в обед сто лет, и они это знают, а без станка никуда. То гаечки, то болтик, то втулочку, То для производства, то для личной машины… В общем, не я у них, а они у меня на полусогнутых ходят. Бегут со всех сторон, я ничего не прошу, трояки так и сыплются. Ну, ты знаешь. Я как к ним пошел работать, так сразу для себя постановил: в шахте вы у меня все высосали, а теперь я работаю на себя. Мне механик принесет из гаража какую-нибудь деталь, скажет: «Коля, надо срочно!» Я его про себя пошлю подальше. У вас, говорю, вечно срочно. Ладно, говорю, сделаю. А у меня под верстаком частный заказ частный заказ, так я, конечно, вперед его сделаю. Хватит, подурили нашего брата… Вечером механик прибежит весь в мыле за деталью, а я ему наплету чего-нибудь, так он мне еще за свою работу дополнительный наряд напишет. А что он мне сделает, он мне кто такой? Я кем там них прохожу, по штатному расписанию. А тебе еще сказать не успеют, ты уже бежишь, аж пыль завивается. Посылать их надо почаще.
— Не могу я,— вконец расстроившись, говорит Нюра,— я тоже у них там кем-то числюсь. Все мы кем-то числимся… Иной раз приду на работу, а что делать — не знаю. Сижу за столом, и кажется, все на тебя смотрят и укоряют. Тут обрадуешься, если какое дело найдут. А ты говоришь — посылай. Ты-то вот-вот на пенсию, а мне еще, как медному котелку. Тем более, что я тебя на пять лет моложе,— сожалеет Нюра.— Недавно тетку знакомую с завода встретила, про свое место спросила. Занято, говорит, сейчас там триста платят. Неплохое место, по крайней мере, знаешь, сколько намыл, все твое. А здесь каждая пацанка так глянет… Думаешь — легко? — Она всхлипывает. Рымарь молчит. Он думает. Бабу действительно надо выручать. Но куда ее устроить? Может, лаборанткой? У них всегда, он слышал, лаборанток не хватает. Только там, наверное, вещества. Нет, это не подходит. «Буду через клиентов узнавать»,— решает он про себя и, чтобы отвлечь жену, говорит:
— Глянь в окно, дождь, какой припустил. Мелкий, но частый. Обложной.
— Тебе-то что? Над нами не каплет.
— Белила цинковые в хозмаге бывают. Купить бы.
— Ты же недавно красил.
— Снаружи надо бы рамы подсвежить. Иду вчера с работы, глянул наверх, а рамы на наших окнах вроде потускнели.
— А я в мебельном светильничек присмотрела. И не дорогой. Сейчас они редко бывают, — спохватывается Нюра и смотрит на дождь за окном. — Может, зонтик возьмем да сбегаем?
— Мне-то что, у меня куртка с капюшоном.
Они быстро, словно боясь опоздать, одеваются и спускаются вниз под дождь, и впопыхах Нюра забывает зонтик. Зато идет, тесно прижавшись к мужу, и он ее, как может, прикрывает от дождя.
Возвращаются домой к вечеру, промокшие и измученные. Светильников они не застали и цинковых белил нынче не выбрасывали. Зато Рымарь, несмотря на протесты жены, купил лучковую пилу за пять рублей.
— Редкая вещь!
— На что она тебе? Что ты ей пилить будешь?
— Ну, мало ли. У нас — увидел, сразу хватай. Вот выйду на пенсию, все пригодится.
— Счастливчик. Тебе сколько месяцев осталось?
— Два месяца и две недели,— торжественно говорит Рымарь.
— Не страшно? Что делать-то будешь?
— Страшно? Вот сказанула. Да я жду этого дня не дождусь. С того момента, может, и жизнь настоящая только начнется. Без дела не останусь, не буду сидеть, ручки сложив, как некоторые. Не боись.
— Я вот тоже думаю. Вышли бы мы оба сразу на пенсию. Вот было бы добро, куда-нибудь поехали… Хорошо.
— А куда ехать-то? В путешествие?
— Ну, не знаю. За грибами бы в будни на электричке поехали, а то в выходные не протолкнешься.
— Насчет путешествия, я положительно. Много ли где мы с тобой были. Садимся в поезд, и через десять дней на Тихом океане.
— Страшновато.
— Ну, заладила. Чего страшно?
— Мне как чего-нибудь менять, не дай бог. Я этого с детства боялась, а теперь и вовсе.
— Ну вот, хорошо хоть предупредила, а то я через своих клиентов работу тебе хотел подыскать другую.
— Нет, Коль, давай, — она приласкалась к Рымарю.— Когда уж совсем-то ты никто, тоже тяжело… Подумай сам, в Кузбассе я рейку на карьере таскала, как ученая собака, неси сюда, неси туда. Они что-то считают, пишут, в трубу заглядывают, Нюра знай бегай. Тогда молодая была, ладно. Потом детали эти столько лет мыла. Ну, тут хоть все ясно, детали сделаны, надо их промыть… Теперь, вот, снова с бумажками, а кому это нужно, мне кажется, они и сами не знают. Мне бы такую работу, чтобы я и занята была целый день и хоть понимала бы, что я делаю. А то на старости только и вспоминать остается, как я детали в керосине мыла. Я тут как-то взялась подсчитывать, что-то много получается.
— Ничего, подруга, не расстраивайся,— весело говорит Рымарь, — главное мы с тобой сделали,— и он оглядывает их комнату.— В наше время квартира — это все. Да на работу я тебя устрою, дай только срок.
— Я тоже думаю, что лучше нашего дома и нет, и квартирка наша, прямо как шкатулка обделанная.
— Подожди, на пенсию выйду, сделаю тебе пол паркетный. Наши дураки кабинет главного инженера ремонтировали, заляпали паркет краской и вывернули его. Линолеум постелили. А я прибрал. Там если не хватит, то совсем маленько. Добрый паркет, дубовый. Я его обчищу да ошкурю, сам положу и сам отциклюю.
— Если бы наши бабы знали, какой ты мастеровитый, вмиг бы увели,— бормочет Нюра, задремывая у мужа на плече.
— И то,— говорит Рымарь. — Это ты меня все грызешь да пилишь.— Он осторожно укладывает жену на диван, поправляет подушку и сам примащивается рядом.
Так проходят дни, недели… По выходным Рымари шастают по магазинам, уделывают свою квартиру, жизнь у них довольно однообразна и может со стороны показаться скучной, но их она не гнетет и не потому, что они привыкли к ее рутине, а потому, что есть в ней большой смысл, который они не осознают. Стоит одному задержаться на работе или в магазине, как другой тут же начинает упрекать:
— И где ты так долго бродишь?
Бывают, конечно, у них и значительные события. Осенью Нюра перешла работать в прачечную. Помогли дружки Рымаря.
В первый день Нюра с непривычки так уработалась, что еле до квартиры добрела. С утра до вечера узлы с весов да на весы, и квитанцию надо заполнить, на счетах считать, — напряжение немалое. Но все равно человеком себя почувствовала. Во-первых, в своем закутке сама себе хозяйка, и, во-вторых, она поняла, что с людьми сможет работать. Собралась домой, руки гудят и ноги трусятся. «Но, — сказала себе, — Николаю виду не покажу». И не показала. По пути постояла в очереди, купила Рымарю пива разливного трехлитровую банку в знак благодарности. За ужином половину выпили.
— Ну, хорошо хоть тебе нравится. Теперь уж работай здесь до конца. Что прыгать с места на место? Это последнее дело.
— И главное, что сама себе хозяйка,— поддакнула Нюра.— И рядом, чуть чего, домой можно прибежать. Оно и та работа была недалеко, но все, три остановка надо ехать. А тут, если бы окна в ту сторону выходили, так видать бы было.
— Надо Павловых пригласить, как-то отблагодарить, обмыть это дело.
— Я не против. Может, и Аникиных тоже, а то вроде неудобно, благодарить я не привыкла… А так, гости и гости. Да и веселей.
— Можно,— согласился Рымарь, — я Ваську Аникина давно не видел.
— Теперь у нас праздники сплошняком пойдут, только успевай продукты запасай, да и водка нынче не дешевая.— Рымарь читал газету, и последние слова жены до него дошли с опозданием.
— Что-то ты тут говорила. Какие еще праздники?
— Как же, Коля, на пенсию же выходишь. Тоже обед надо делать. Где отмечать будешь? На производстве или дома? Многие нынче в ресторане отмечают, у людей денег много, А у нас, Коля, на это дело средств нету, — и Нюра пригорюнилась.
— Будешь ты еще ради этого расстраиваться. Ресторан, я что сдурел, в ресторане их поить, сколько лет работаю, а ни одного доброго слова не слыхал. Директору института, сколько деталей для личной машины выточил. Механик прибежит и аж колени подгибаются: «Это для Анатолия Юрьевича». А этот Анатолий Юрьевич со мной и не поздоровался ни разу.
— Да он тебя и в лицо не знал, поди. Чего ты разошелся? — в таких случаях Нюра всегда занимала примирительную позицию.
— Он меня не знал, а я его знать обязан? Вот уж дудки. И на юбилей я никого из них не буду приглашать. На пенсию человека отправляют, вот радости.
— Ты же хотел, Коля.
— Я и сейчас жду, не дождусь. Я говорю вообще-то, какая тут радость. Свадьба, что ли? Соберу своих «детей подземелья», литру им поставлю, пусть гуляют.
— Может, мало? — осторожно спрашивает Нюра.
— А мало, так добавят, сбросятся, не первый раз.
— Закуску я приготовлю.
— Еще чего. Что у нас в «подземелье» — баб нету. Сварганят чего-нибудь.
— Дак, ты и меня не хочешь приглашать? — обиженно спрашивает Нюра.
— А чего? — беззаботно отвечает Рымарь. — Лучше мы под это дело дома разопьем с тобою бутылочку. Сядем рядком, поговорим ладком…
Наступает тягостное молчание. Рымарь шелестит газетой, читает или не читает, но закрылся ею, только тапочки торчат. А Нюра не находит себе места, то в кухню пойдет, погремит посудой, то в комнате начинает стулья двигать, и все громко, с нервами, с раздражением. Наконец, она не выдерживает.
— Если завел там кого, так скажи прямо, не крути хвостом, как кобель нашкодивший.
Рымарь медленно сворачивает газету. Вдвое, вчетверо, кладет ее на журнальный столик, придавливает очками.
— Опять за рыбу деньги? Ну, баба у меня, зверь
баба. Ну, иди, кто тебя держит, может, сама с кем закрутишь, у нас там хахали добрые. На ходу подметки рвут. Вот еще пореви, этого еще только не хватало,— он подсаживается к жене, обнимает ее за спину, а она подставляет локоть.
В конце концов, решают так, что Нюра готовит ему на производство закуску, а сама все силы сосредоточивает на том, чтобы принять хорошо Павловых и Аникиных.
— Это и будет мой юбилей,— говорит Рымарь.—
А там я не хочу, надоели они мне хуже горькой редьки. Ты пойми, что я для них там. Я этот… — он долго подыскивал подходящее слово:
— Выходец… и больше ничего.
Нюра не поняла, что это значит, но переспрашивать не стала. Ясно было одно, что ее мужа на работе сильно обижали. Не считались с ним или еще чего. А что обижать у нас умеют, она и по себе знала.
— Ладно,— сказала Нюра,— плюнь на них, на всех и береги свое здоровье. Тем более, что оно у тебя в шахте подорвано. Они, небось, уголек нагора не выдавали. Давай лучше мы прикинем, чем будем Павловых с Аникиными угощать. На закуску, два салата овощных, один столичный, колбаски порежу коопторговской, сардинки в масле у меня с прошлого года лежат, селедку под шубой… Правда, селедки нет, но можно сарданеллу. Косточки хорошо выберу и пойдет. Ну, что еще? Само собой
сыру. Мне девки обещали достать килограмм. Может сальца копченого на тарелочку порезать? Такое аппетитное на базаре видела.
— Огурцов соленых, помидор, капусты, — подсказывает Рымарь.
— Ну, это само собой. Этого я нынче, слава богу, назапасала. А вот зеленого горошка, наверное, не достану. А как бы хорошо, зеленый горошек.
— Да и черт с ним, с горошком. И так закуски много, стола не хватит.
— Так и надо, чтобы стол был красивый, это не у вас в «подземелье», бутылку на верстак и рукав на закуску.
— Да ладно тебе. Ты уже тоже, чересчур. Я тебе не про «подземелье». Понимаешь, у нас в деревне, бывало, гуляли. На закуску огурцы, помидоры, капуста горой. Ну, винегрета таз наделают, холодец и лапша с гусем. Правда, жирнющая. Вот и весь закусон. Зато как гуляли, крыша поднималась и пьяных, считай, не бывало.
— Потому что мяса вволю.
— Да, мяса к этому дню натушат столько, что потом мы, ребятишки, дня три косточки таскаем.
— Но ты, Коля, не равняй. Нынче винегретом да лапшой не обойдешься. Наизнанку надо вывернуться, а стол сделать богатый, чтобы те же Аникины не попрекали за глаза. Да ты что у меня — не стоишь? Да ты у меня больше всех стоишь.
Рымарь снова зашелестел газетами, показывая этим, что бабские дела его мало интересуют и он, как всякий уважающий себя мужчина, живет большой политикой.
— Нет, ты дослушай,— не отстает Нюра,— с гусем ты меня хорошо надоумил. Лапшу я, конечно, варить не буду, но потушу его кусками, с капустой.
— И с яблоками,— машинально добавляет Рымарь.
— Нет, с яблоками хорошо, когда целиком. Я, пожалуй, гуся потушу отдельно, а гарнир сделаю отдельно.
— А где ты гуся собираешься брать, еще забоя-то нет, тепло еще,— выражает свои сомнения Рымарь.
— А я видела. Не частники, правда, торговали, но государственные гуси были очень даже ничего. Пеньков, правда, много, но обработаю. А если торт я сама делать не буду, а куплю в кулинарии, не обидятся, как ты думаешь?
— Да кто его этот торт есть-то будет? Хоть твой, хоть из кулинарии. А для красоты, так из кулинарки даже лучше.
— Если сам не ешь, так, думаешь, никто не ест. Павлов в прошлый раз очень хорошо наворачивал.
— Васька? Ну, не знаю. А мне так эти торты и даром не нужны.
— В общем, ясно. А водка, лимонад, минералка, все за тобой.
— Тут я, как штык.
Вечер начался хорошо, гости хвалили стол, пили за хозяина, за хозяйку. За то, что хозяин так хорошо сохранился. И за любовь пили. Потом Павлов предложил выпить за детей, и вышла маленькая заминка, неловкость. Но жена его вовремя толкнула коленом, и он вырулил, закончив свой тост тем, что тяжело, когда детей нет рядом, у него старший сын офицер, а их бросают туда и сюда, и вообще, жить нынче страшно и особенно страшно за детей, Выпили, а следом Вася Аникин предложил гусарский: за бабе, и все его приняли с повышенным воодушевлением, весело. А через некоторое время уже не совсем впопад, когда про гусарский тост забыли, Рымарь поднялся, налил водку себе и всем остальным в фужеры и провозгласил:
— За мою бабу прошу выпить отдельно. Штрафную, потому что моя баба — лучшая в мире.
Все с трудом, но выпили. Рымарь следил. Только Нюра пить не стала, подменила водку минеральной незаметно. Она умела это делать. Тост мужа ей был, конечно, приятным, и все бросились ее поздравлять и целовать и даже начали кричать горько, но они сидели на противоположных концах стола, он как юбиляр, а она, чтобы ближе к кухне, так что вылезать Рымарю было неудобно. Он сделал попытку, но потом послал ей воздушный поцелуй и посмотрел на нее влажными растроганными глазами. И по слезам на его глазах Нюра поняла, что Рымарь очень пьяный. Так и оказалось. Он начал буровить невесть что. И понес, и понес. Правда, на него как на юбиляра не очень обращали внимание, но то, что он через минуту вскакивал и во все горло орал:
— Я — выходец, — и смотрел на гостей злыми глазами, это, конечно, мешало, Нюре несколько раз приходилось извиняться за мужа.
— Не знаю, что с ним случилось. Я его сроду пьяного не видела, вот и на шахте работали, а там уж как пьют, а мой ничего, всегда как стеклышко. Не знаю прямо, что с ним случилось.
Рымарь внимательно слушал жену, и взгляд его становился, казалось, осмысленным, но стоило ей закончить он ударял кулаком по столу, так, что подпрыгивали тарелки, и рявкал:
— Я выходец! — заканчивал длинным, кудрявым матерком.
— Заело у братишки пластинку, — добродушно говорил Вася Аникин и наливал по малой себе и Павлову.
Женщины разговаривали между собой на свои темы, стараясь не очень обращать внимание на перебравшего юбиляра. С кем не бывает. Но Нюра была вся в напряжении и принимала все близко к сердцу, «Вот, ради него люди пришли, а он, видишь, что?» И она не знала, что ей делать, и время от времени продолжала извиняться перед гостями. — Да ничего, — говорили ей женщины,— все нормально.
— Он ведь завтра мучиться будет.
— Это точно,— говорил неунывающий Вася Аникин.— Ты, Анна, на этот случай оставь ему стопарь, да побольше, чтобы пробило.
— И прицепился к нему этот «выходец». Сроду я от него такого не слыхала. Мы ведь с ним из одной деревни. Через дом жили.
— Это — климакс,— авторитетно заявил Павлов и начал смотреть на Рымаря, как на пациента.— Помнишь, Аля, как у меня тогда было? — обращался он к жене.
— Да отстань ты,— отмахнулась она.
— А что? Болезнь такая. Вы не беспокойтесь, — успокаивал он Нюру.— Это у него пройдет. Но опохмелиться, конечно, надо. Не помешает.
— Да я не про то. «Выходец» — что это за слово такое, поганое. Где он его выкопал?
— Выходец — это я знаю, что такое,— говорил Вася Аникин и задумывался.— Это когда из этого самого… В общем, какая разница. Проспится — человеком будет.
Но, несмотря на то, что Рымарь смазал конец своего юбилея, все же, по мнению Нюры, вечер прошел ничего. Водки осталось всего полбутылки, но гуся, правда, ели мало…
Рымарь утром проснулся виноватым, с воспаленными разами. От водки отказался категорически:
— И так с души воротит.
— Лучше бы вчера вот так-то. А то навыставлялся перед людьми.
— Да ладно, что было, то прошло. В жизни раз бывает восемнадцать лет. Теперь в «подземелье» отметимся и поедем дальше.
— Ты только там так же не наберись. А то прямо страшно тебя одного и отпускать.
— Страшно ей! Мужик за пятьдесят лет один раз напился, ей страшно! А если который каждый день?
— Нет, ты все же поберегись. Боюсь я.
— Не боись, два снаряда в одну воронку не попадают.
Вечер этот постепенно за повседневными заботами забылся, а через две недели, когда Рымаря должны были провожать на пенсию и Нюра гладила мужу белую рубаху, ее что-то кольнуло, но не хотелось портить Рымарю настроение, предупреждать, она только оглядела его перед уходом, чтобы все было нормально, заглянула ему в глаза. Может быть, долго смотрела или в ее глазах был вопрос, но он понял.
— Я раньше тебя дома буду, поняла? Ты еще там простыни свои штуковать будешь, а я буду уже дома. Чайник поставлю.
— Лучше картошки почисти, — сказала ему Нюра с улыбкой.
На этом они и разошлись.
В конце работы в красном уголке проектного института, в котором полулегально токарил Рымарь, очень оперативно, при небольшом стечении народа, провели официальную часть его проводов на пенсию. От месткома вручили ему грамоту и что-то блескучее, перевязанное розовой лентой. Конверт с деньгами председатель месткома передала ему уже не торжественно, а, догнав Рымаря в коридоре, забыла.
Когда все это действо, демонстрирующее любовь к человеку, было закончено, Рымарь спустился к себе в «подземелье». Несмотря на усеченность и формализм его чествования, он был растроган, и, когда держал слово за столом, накрытом в подвале, вполне искренне сказал, что как бы то ни было, а ему жалко расставаться с коллективом и если надо что помочь, то он всегда готов.
Помня свой недавний казус, выпивал Рымарь умерен но, но атмосфера была такая радушная и говорили о нем тепло и искренне, что он развеселился и даже сплясал цыганочку, когда сантехник Паша Воронов достал из инструментального ящика «хромку», которую он принес специально для этого дела.
Был и сюрприз. В середине вечера к ним неожиданно пришла женщина-проектировщик, вывалила на стол килограмма два прекрасных яблок и сказала, что это юбиляру от нее подарок. Она поздравила Рымаря, расцеловала в обе щеки, сказала, что он самый добрый человек во всем их институте, и ушла, хотя ее приглашали посидеть.
Никто толком не знал эту женщину и стали приставать к Рымарю, кто да что. А он только пожимал плечами, он и сам знал ее не больше, чем другие, Но ему не верили и озорно грозили пальчиком, особенно женщины-подземельницы.
— Знаем мы тебя, ходока.
Рымарь подумал, хорошо, что с ними нет Нюры, ей было бы еще труднее объяснить. На столе лежали красные яблоки, как вещественное доказательство.
Когда выпивка подошла к концу, мужики, как и положено, засуетились. И Рымарь решил, что самое время уходить, тем более, что женщины уже разбежались. Он взял со стола самое красивое яблоко, сунул его в карман и посмотрел на часы, было почти восемь. «Не уложился, — подумал Рымарь.— Нюра уже дома. Ну, ничего, она простит. Минут через пятнадцать-двадцать я ей вручу наливное яблочко». Он еще раз пощупал его в кармане и пошел домой.
Был конец ноября, и снежный покров еще не лег. Да и погода зимняя не установилась. То морозило по ночам, то снова начинало дождить и распускало слякоть. Вечера были уже осенние, темные, а при пасмурном небе особенно.
Но в городе в это время еще очень оживленно, народ толпится на остановках, автобусы идут переполненные злым и усталым после работы людом. Встречаются и пьяные.
Рымарь шел домой и думал почему-то не о том, что сегодня у него был по сути последний рабочий день, и даже не о том, как его чествовали и поздравляли, а о женщине, которая принесла яблоки. Он пытался вспомнить, где, когда пересеклись их дороги, и не мог. И вдруг его осенило. В такой же пасмурный вечер год назад, а может быть и два, их привезли с поля, где они убирали колхозную картошку. Автобус привез всех к институту и высадил. Женщины, конечно, пользуясь, случаем, набрали себе картошки, кто в пластмассовое ведерко, Кто в сетку. Теперь надо было эту картошку тащить до остановки рейсового автобуса.
Рымарю ехать было не надо, дом был рядом, но он шел налегке. Из принципа. А принцип у него был простой: «Буду я еще таскаться». Впереди него шла женщина и несла полную сетку картошки, поклажа была для нее велика, да и неудобна, сетка била по ногам, ей даже приходилось перегибаться, чтобы сетка не волочилась по земле.
Рымарь догнал женщину, потому что шел быстро. Он взял у нее сетку и помог донести до остановки автобуса. Вот и весь его подвиг. А так как сделал он это механически, то, конечно, тотчас забыл. Женщину он толком и разглядеть не успел. А она вот не забыла…
Рымарю стало очень грустно. Если такая малость заставила женщину запомнить его, так что же на ее долю тогда досталось,
«А жизнь такая короткая. Вот и ему уже пятьдесят стукнуло». И в тот момент, когда Рымарь об этом подумал, он услышал душераздирающий женский крик. Это было совсем рядом с его домом, в соседнем дворе. Рымарь ускорил шаг, потом побежал. Никто из довольно многочисленных прохожих не обращал внимания на крик, все шли своим путем. Едва миновав подворотню, Рымарь посреди двора, освещенного со всех четырех сторон окнами девятиэтажек, увидел мужика, который куда-то пытался тащить женщину. Она вырывалась и кричала.
Рымарь ударил мужика с разбега. Он целил в голову, но промахнулся и сбил только шапку.
Мужик оторопел, он отпустил женщину и стал поднимать шапку.
— Совсем, что ли, офонарел, куда лезешь? — сказал мужик. — Твое это дело?
— Что ему надо, этому фраеру? — истерично закричала женщина, и Рымарь понял, что она совсем пьяная.
— Спасать тебя пришел, пойдем домой,— мужик снова попытался тащить женщину.
— Пусти, сначала я ему врежу,— она вырвалась,
покачиваясь, подошла к Рымарю и со всего размаха ударила его кулаком по носу и тут же вцепилась ему в куртку, чтобы ударить еще раз.
Кровь заливала Рымарю лицо, он с трудом оторвал руку женщины и оттолкнул ее. Она упала на спину и завопила:
— Женщину бьют, а ты смотришь. Сука ты — не матрос.
— Ладно, не верещи.
Ее напарник не торопясь, подошел к Рымарю и, ни слова не говоря, ударил его в живот ногой, а потом, когда тот согнулся, резко рубанул по затылку и опрокинул навзничь.
— Ну, все, что ли? Теперь пойдем, я его отключил.
— Отключил? Вот я посмотрю, как ты его отключил.— Женщина подбежала к лежащему Рымарю и стала топтать его острыми каблуками сапог, стараясь наступить на лицо, попасть в промежность. Она стервенела с каждой секундой и словно трезвела от этого. Разбегалась и со всей силой прыгала на безвольное тело человека, потерявшего сознание, терзала его с наслаждением, почти со сладострастием.
От боли Рымарь дважды приходил в себя, но с трудом сознавал, что с ним происходит.
— Что же вы делаете, сволочи? За что? — невнятно бормотал Рымарь и снова терял сознание.
— Он еще голос подает. Я ему сейчас хрип сломаю. — Она пыталась наступить Рымарю на горло.
— Сваливаем! — тащил озверевшую бабу напарник. — Он окочурится, а мне потом отвечать. Сваливаем моментом.
Все это происходило несколько минут, на виду у людей, но никто не вступился за Рымаря, никто не позвал на помощь, не крикнул: «Караул!»
Дождь, едва крапавший с вечера, постепенно усилился, и Рымарь лежал еще с час, поливаемый холодными осенними струями, пока не пришел в себя от боли и от холода, а может быть, собрав последний, резервный запас сил, отпущенный его организму.
Подняться на ноги он уже не мог. И он пополз, плохо видя и плохо соображая. Люди проходили мимо с брезгливой безучастностью. Только двое подростков помогли добраться Рымарю до подъезда, но, увидев его на свету, испугались и убежали.
Рымарь как в чаду поднялся на лифте и позвонил, Нюpa открыла сразу.
— Вот я и дома, — сказал Рымарь, с трудом ворочая языком и пытаясь улыбнуться. И тут же он стал валиться на Нюру в маленькой прихожей, цепляясь за стену и пачкая кровью обои.
Она с трудом втащила его в комнату, уложила на диван и раздела. Он стонал при каждом прикосновении.
Она металась из кухни в комнату, вытирала мужу кровь на лице, пыталась сделать какие-то примочки, но все это полубессознательно, сомнамбулически, и при этом как заклинание повторяла: «Скорую» бы надо, «скорую…»
В какой-то момент Рымарю снова стало легче, прояснилось сознание.
— Ну что ты суетишься, Нюрашка, присядь, отдохни. Она послушно присела около него на край дивана, готовая мгновенно сорваться и лететь, куда он скажет. Но он нащупал ее руку и погладил.
— Возьми у меня в куртке, там, в кармане яблоко. Она принесла яблоко и положила его на стол.
— Это тебе,— сказал он и улыбнулся распухшими губами.
— Ага, — сказала она, — может, «скорую»… «Скорую» бы надо!..
— Да ладно тебе, видишь, уже отошел почти, все нормально. Пойди завари чайку. Попьем с тобой чайку. А на ночь ты мне валерьяночки накапаешь, чтобы я крепче уснул.
— Может, не надо чаю, если валерьянки, — Нюра смахнула набегающие слезы.
— Сделай, как я прошу.
— Может, тебе со сливками, — сказала жена, подавляя рыдания.— Я сегодня сливок две бутылки купила.
— Иди,— он слабо махнул ей рукой. Отсутствовала Нюра не более двух минут, а когда вошла в комнату и глянула на Николая, поняла, что все кончено а вилы. Но вряд ли, не успеют. На губах у мужа пенилась кровь, а глаза смотрели в потолок неподвижно и льдисто.
Чашка с чаем выпала у нее из рук и облила кипятком ногу.
— Коля, — сказала Нюра едва слышным шепотом и завыла. Она выла весь остаток ночи и утро, когда уже начал гудеть лифт, выла до тех пор, пока не приехала «скорая» и ей не сделали успокаивающий укол. Потом приехала милиция.
После похорон и поминок, когда Нюра сидела одна на диване, одеревеневшая от слез и бессонницы, и неподвижно смотрела на лежащее, на столе яблоко, она вдруг почувствовала подкатившую, не совсем ясную, но знакомую тошноту и испугалась.
На девять дней пришли только Аникины и Павловы, и к этому времени Нюра уже точно знала причину своей тошноты и думала только об этом.
Она подавала им блины, разливала лапшу, слышала, как они тихо переговаривались, но весь этот разговор доходил до нее, как через вату, она могла думать только о своем.
— Мне кажется, он предчувствовал,— говорила жена Павлова.— Выходец я, мол, это точно предчувствовал…
— Да какое там,— возражал Вася Аникин, — мужики рассказывали, что он перед этим плясал, а вы говорите, предчувствовал — Вася был материалистом и ни в какие предчувствия не верил.
Жена Павлова могла бы ему возразить, но на поминках было неудобно.
Сидели недолго, и, уже когда собрались расходиться, Нюра неожиданно спросила:
— Как вы думаете, покойники посылают приветы? Никто не знал, что ответить.
— А вот мне Коля привет послал,— сказала она с тихой улыбкой.
Женщины тайком со страхом переглянулись и стали прощаться.
Дни потянулись тусклой серой чередой, спасала только прачечная. Иногда, чтобы ни о чем не думать, она ходила работать в две смены, но делать это становилось все труднее, привет, оставленный покойным мужем, давал о себе знать. И еще, ее мучила мысль, что на сорок дней никто не придет. Но, все равно, она потихоньку собирала продукты. Страшнее всего было ночью, муж снился Нюре постоянно, и все она видела так живо, что, проснувшись, никак не могла отойти, не верилось, что его уже нет рядом.
— Вот, ведь, как и не жил, — повторяла она и не могла избавиться от тягостной вины перед мужем, которую она постоянно чувствовала во сне, а проснувшись, не могла понять, в чем же она состоит,
Как-то так совпало, что, когда накануне сороковин собралась Нюра на кладбище, в тот же день приглашали ее повесткой в прокуратуру. Не хотелось ей туда идти, но она привыкла относиться к официальным бумагам серьезно, и пошла.
В кабинете следователя сидела накрашенная, наглая девка. Дебелая, с сильными ногами, которые нравятся мужикам, и вообще красивая, хотя несколько потасканная и помятая. Нюра глянула на нее, как сфотографировала. Тут же в кабинете следователя стоял, прислонившись к стене, молодой милиционер с кобурой на поясе. Наверное, конвоир.
Следователь сделал ей знак, чтобы подождала в коридоре. И Нюра села у дверей на расшатанный стул с вытертым дерматиновым верхом.
Через дверь все было слышно. Но Нюра не хотела слушать. Она взяла стул и села в дальний конец коридора. Она знала, кто сидит перед следователем. Вскоре эта девка, сопровождаемая конвоиром, вышла из кабинета, и они прошли с Нюрой совсем рядом. Нюра опустила глаза, чтобы их не видеть.
— Знаете, кто до вас тут сидел? — спросил следователь.
— Знаю,— тихо сказала Нюра.
— Скажите, может быть, муж ваш перед смертью успел вам рассказать что-нибудь, в частности об особе, которая только что здесь сидела.
— Нет, ничего не рассказывал.
— Жаль, очень жаль. Извините, что потревожил, — следователь расписался у Нюры на пропуске. Нюра вышла из его кабинета и тут же все стерла в сознании. Нет, она не простила эту дебелую девку, эту мразь. Но зачем она должна была о ней думать, ведь не думает она о крысах, о пауках, о всякой мерзости. Их надо просто уничтожать отравой или огнем или топить в помоях.
Кладбище было белым от недавно выпавшего снега, и Нюра с трудом нашла могилу мужа. Она отряхнула от снега бумажные и металлические венки, очистила скамейку и осторожно присела на нее у оградки.
— Ну вот, Коля, пришла я к тебе и с горем… И с Радостью, и за советом пришла…
Она перевела дыхание и добавила:
— Яблоко тебе принесла. Сорок дней прошло, а оно свежее, как с ветки… А дело, сам знаешь, какое. Да, мой дорогой. А ты себя корил. Но жить-то как, мой хороший? Квартиру еще не выкупили, и вообще… Без тебя и слово не с кем сказать, не то, что посоветоваться.
Она долго сидела молча, положив между коленей руки, сцепленные замком.
— Ничего ты мне не скажешь, мой милый. Если никто не придет на твои поминки, мы все равно поминать тебя будем вдвоем.
Она поднялась, перекрестила могилу, осторожно прикрыла калитку оградки и пошла к выходу с кладбища без слез.
СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК.
Матушка Веруськи Чернобровиной часто рассказывала дочери, тогда ещё девочке-подростку, как перед самыми родами отец пришёл домой, лыка не вяжет, а у неё уже брюхо было, хоть табуретку под него подставляй . . . Слово за слово, поругались. Отец по пьяному гонору сильно толкнул матушку, она упала так неловко, что начались преждевременные роды. Вызывали скорую, еле её отходили. Матушка об этом рассказывала много раз, но почему-то винила в случившемся не столько мужа, сколько свекровь. Cвекровь жила одна, но ей всегда было некогда, то гостей принимает, то сама в гостях. А если заглянет иногда, так всё с претензией:
— Ты своей бабе воли не давай, держи её в ежовых рукавицах…
Ещё матушка вспоминала, что Веруське бабушка ни разу конфетки не принесла, на руки не взяла. Бывало, если Веруська по полу ползает, а что тут такого, ребёнок сухой, на полу одеяло байковое постелено, пусть девчонка поползает, быстрее пойдёт. А ты, бабка, пришла, возьми ребёнка на руки, потетешкай… твоя же кровь… Хоть в кроватку посади… Так нет, ногой Веруську, как котёнка отодвинет, да только и скажет: «За дитём следить надо, не семеро по лавкам».
Матушке бывало обидно, но она молчала. И свекрови супротив ни слова, и с мужиком всё по-доброму, с лаской. А куда ей было деваться, когда ни образования, ни профессии. Спустя годы матушка очень сожалела, что рассказывала о своих обидах и переживаниях дочери, считала, что именно из-за этого отношения у Веруськи ни с ней, ни с отцом никак не складывались — дочь постоянно рвалась из дому.
С грехом пополам Веруська закончила школу, поступила в текстильный техникум, проучилась кое-как год, не потянула. Увидела в газете объявление, что на суконной фабрике набирают учениц ткачих, пришла в отдел кадров, поплакалась, наврала, что из деревни, что с квартиры гонят, на работу не принимают, что, мол, на последние деньги купила себе пачку «Геркулеса» и что дальше делать не знает, вернулась бы домой, но билет на автобус не на что купить. Сердобольные тётки из отдела кадров повздыхали, вспомнили свою молодость, когда начинали самостоятельную жизнь, пошептались меж собой, сходили куда-то посоветовались и вернулись в хорошем настроении: «Давай паспорт!»
С паспортом могла выйти заминка, там значилось, что Веруська городская жительница и получалось, что про свою трудную жизнь в деревне она слегка привирает. Просто сказать, что у неё нет с собой паспорта, могло показаться подозрительным. Но она нашла выход, покопалась в своей сумочке, достала из неё не очень солидную, порядком помятую, но заверенную круглой печатью бумагу, в которой значилось, что Веруська, студентка второго курса текстильного техникума, от уборки сахарной свёклы в связи с болезнью матери освобождается до начала занятий. Женщины сочувственно переглянулись: помогать надо девчонке, не сладко видно ей живётся, к тому же, и мать больная.
Едва получив пропуск на фабрику, Веруська выхлопотала себе место в общежитии и дома стала бывать совсем редко, только чтобы перехватить у матери деньжонок по мелочи. Это пока была на фабрике ученицей. А как получила разряд, так, вообще, дома бывать перестала. Мать встретит на улице, хорошо, если остановится, а то мимо проскочит:
— Здравствуй, мама, некогда мне, бегу…
А отца увидит, за квартал на другую сторону улицы переходит. Для неё, сколько Веруська себя помнит, отец всегда был чужим человеком, к которому кроме страха, никаких чувств, она не испытывала.
* * *
Четвёртый год работала она на суконной фабрике ткачихой, была на хорошем счету у начальства. Мастер цеха, после подведения итогов в конце месяца, любил повторять:
— Если бы ты, Веруська, была замужем, я бы в цехкоме костьми лёг, чтобы выбить тебе квартиру, а так что, холостая, и даже не мать- одиночка. А наши мужики, дуболомы… Какая девка пропадает. Если бы я был мусульманином, взял бы тебя второй, любимой женой…
— Так разведись! — подсказывали ему.
— Партбилет не позволяет…
— Так выброси его, что от него теперь толку, взносы платить, да карман протирать, — кричат бабы с мест и весь дружный коллектив цеха весело хохочет. Веруська смущённо поёживается, в глубине души она чувствует, что если бы нашёлся такой мужик, который бы позвал, хотя бы и такой, как Петрович, их мастер, она бы пошла. Пусть малость староват, но весёлый. И квартира — своя крыша над головой, тоже бы не помешала
Веруська была хоть и не красавица, но из себя ничего, и фигурка точёная. Парни на улице на неё оборачивались, но дальше дело не шло. На танцы в фабричный клуб она не ходила, только в красный уголок в своей общаге. А с кем там танцевать. Одни девчонки, да бабьё, старые невесты. Постоит у стены и спать. И прежде чем уснёт, бывало, всплакнёт в подушку.
Успокаивало только то, что таких как она молодых девчонок в их цехе — не сосчитать. И не могло же так быть, чтобы все они остались старыми девами. Если бы так случилось, то и жизнь бы, пожалуй, остановилась. Но это невозможно! А с ней, на которую парни всё время оглядываются, такого и подавно не может быть. Жаль только, что время проходит зря…
* * *
В конце мая, или в начале июня, точно Веруська не запомнила, к её станкам для профилактики и возможного текущего ремонта подошёл наладчик по имени Васёк. Так почему-то все его звали, хотя ему было уже около тридцати.
Он, молча, не здороваясь, как это всегда делал, стал ковыряться со станком, не только не обращая на Веруську никакого внимания, но как бы всем своим видом показывая, что её присутствие имеет для него намного меньшее значение, чем любой её станок, который он должен был внимательно проверить и убедиться, в его пригодности к дальнейшей работе. Впрочем, так было всегда и никто из женщин в цехе не обращал на это внимания, все знали, что Васёк такой от природы-молчун.
Веруська в тот день почему-то была не в настроении и решила задрать Васька, просто так, чтобы отвлечься. Она подошла к нему и игриво поздоровалась. Он буркнул что-то невнятное и продолжал копаться в станке.
— У тебя что, язык к нёбу прилип? Поздороваться нормально не можешь? — Веруська досадливо пнула его сумку с инструментом, отбила ногу и поморщилась.
— Инструмент-то причём? — Васёк улыбнулся. У него были белые крупные зубы. Веруська почувствовала, что краснеет. Он встряхнул свою сумку и снова улыбнулся.
-Если что исправить надо, зови. Я всегда…- Васёк быстрым шагом пошёл к выходу из цеха. Цех был длинный, и Васёк был длинный и тонкий, как карандаш. Он сильно раскачивался на ходу и это очень нравилось Веруське. Она смотрела ему вслед пока он не скрылся за дверью.
* * *
C этого дня начались Веруськины любовные страдания. Каждый день, войдя в цех, она первым делом искала Васька глазами, и если не находила, когда они работали в разные смены, то очень расстраивалась, возвращалась с работы не в настроении и без причины ссорилась с соседками по общежитию. Кроме неё в комнате жили ещё три женщины, все чуть ни вдвое старше Веруськи, и старались её опекать, подсказывать, что надо по работе, и просто по жизни, делились опытом. Веруська относилась к советам, особенно по сердечным делам со вниманием, а бывало и с сочувствием, если кто-то из соседок рассказывал о сокровенным, но в душе немного их презирала: чему у них можно научиться, у старых дев- неудачниц…
У неё всё будет не так, уж если встретит свою судьбу, не упустит. Ей даже казалось, что она знает, как это произойдёт: встретятся глазами… и всё.
* * *
Однажды, когда Васёк в очередной раз пришёл для профилактики её станков, что-то вроде бы произошло. Васёк посмотрел на неё, как ей показалось не так, как обычно. Но ничего особенного не случилось, если не считать, что он попросил у неё десятку до получки. У Веруьски с собой было только семь рублей, пятёрка и два рубля рублями. Сначала она хотела дать ему только пятёрку, а два рубля оставить себе на столовую, но в последний момент передумала и отдала все. Васёк заметил её замешательство и улыбнулся:
— Ты не боись, в получку верну. Как штык! И в кино сходим. С « пломбиром», если ты не возражаешь.
Веруська молча, пожимала плечами и улыбалась. Но прошёл месяц, а Васёк не подошёл к ней, ни разу. Иногда она издалека видела его долговязую фигуру, но сама не подходила. Ждала. Она, конечно, могла и позвать. Он же сказал ей тогда, если, что: зови. Но, как назло, всё у Веруськи было нормально, и она надеялась, что её ожидания будут не напрасными, и что наступит день, когда он сам подойдёт и скажет именно те слова, которые сказал тогда и сделает так, как обещал.
«С пломбиром…» — повторяла она про себя, радостно улыбаясь. Конечно, ей было немного обидно, что он так долго заставляет себя ждать, но когда он, наконец придёт, виду она не покажет. Ещё чего. Веруська просто строго посмотрит на него, и взгляды их, наконец, встретятся.
* * *
Но время шло, а ничего не происходило. Веруська постоянно искала Васька глазами, и если находила его, хоть в другом конце цеха, то её сердце начинало часто и больно биться где-то под горлом и ей приходилось с минуту постоять, облокотившись на станок, чтобы оно успокоилось. Но вдруг, Васёк и совсем перестал появляться в цехе. Веруська не раз порывалась спросить у женщин, но стеснялась.
Когда однажды, к её станкам для профилактики вместо Васька пришёл пенсионер в толстых очках, Веруська не на шутку забеспокоилась, не случилось ли чего? Может Васька послали в командировку, а может, не дай бог, заболел, или его перевели в другой цех? Всё могло быть. И Веруська решилась обо всём расспросить у пенсионера. Во-первых, человек пожилой, на фабрике давно и обо всех должен знать, во-вторых, всё-таки мужик и не будет особенно вникать, почему какая-то Веруська интересуется, куда пропал Васёк, и, наконец, он как наладчик должен уж точно знать, почему Васька перевели на другой участок. Если перевели…
Пенсионер закончил работу, собрал инструмент, в деревянный ящик, с какими обычно ходят плотники, но, видимо, не очень доверяя своему зрению, кряхтя, опустился на четвереньки и долго шарил ладонями по полу, проверяя, не обронил ли чего. Это рассмешило Веруську, она прикрыла рот рукой, чтобы не расхохотаться. Ещё больше её рассмешило, что перед уходом старик ласково, как живое существо погладил станок, и даже потрепал его, как коня по холке. И получалось это у него так натурально и смешно, что Веруська все же не выдержала, и громко расхохоталась.
Но наладчик никак не среагировал. Тогда Веруська, собравшись с духом, придержала его за рукав и громко спросила про Васька. Наладчик обернулся, с удивлением на неё посмотрел, и ответил тоже громко, но не уверенно:
— Насчёт аванса, милая, точно не скажу, не знаю. Ты бы у мастера лучше спросила, он должен быть в курсе… Он смущённо пожал плечами и, семеня, пошёл по проходу, громко шоркая стоптанными полуботинками.
— Да, ты, дедушка, не только слепой, но и глухой. — Сказала Веруська с досадой и отвернулась.
Прошло ещё несколько дней, Васёк так и не появлялся.
«Может в отпуске, — думала Веруська, — предложили ему горящую путёвку за счёт профсоюза, он и собрался на раз. Да и кто бы на его месте отказался. Только профсоюзные теперь вроде бы бесплатно не дают, — поправляла она себя. — Но мог бы как-то сообщить, хотя бы через кого-то. Через кого? И почему ей, кто она ему? Двоюродный плетень, его забору, — вспомнила Веруська материну присказку и горько усмехнулась: втюрилась в мужика, а он и знать не знает, ведать не ведает. Что их связывает? Слава богу, мужики не мамонты, пока ещё все не вымерли».
Веруська решила выбросить Васька из головы и начать ходить на танцы.
* * *
Танцы летом и до самых осенних холодов устраивали не в красном уголке, а перед общежитием на асфальтированной площадке, которую когда-то готовили для теннисного корта, но не закончили. Однажды пригласили районного профсоюзного деятеля, которому решили похвастать, что местком не дремлет. Он измерил площадку шагами вдоль и поперёк, но что-то ему не понравилось.
— Кому это в голову пришло заливать площадку под большой теннис асфальтом? — Строго спросил он.
Ему не ответили. И не потому, что сопровождающие посчитали себя виноватыми или зависимыми от районного профсоюза. Этого не было. Ничья местная голова не мучилась: заливать, не заливать, если «под большой теннис». Залили и ладно. Быстро сохнет, ровно и после дождя не грязно. И вообще, официальную часть мероприятия пора было заканчивать, потому, что в малом зале уже «нолито» и водка стынет.
Районный профсоюзный деятель прекрасно понимал ход мыслей хозяев, но привык, чтобы последнее слово оставалось за ним.
Он ещё какое-то время потоптался на заасфальтированной площадке, сделал несколько движений имитирующих то ли мощную подачу, то ли удачный приём и сказал убеждённо:
— Дело вы, товарищи, затеяли хорошее, нужное, но я бы посоветовал вам соорудить на этом месте две городошные площадки. Я прикинул на глаз, как раз войдут.
Все дружно, с готовностью согласились, даже те, кому пришло в голову, что городошные площадки перед женским общежитием-это, пожалуй, слишком авангардно. Хотя…
Площадка была основательно обмыта, но к её статусу больше не возвращались. Для тостов возникали другие темы, с ней не связанные, но по тому времени очень важные и злободневные. И хотя народ веселился и острил, во всём этом веселье чувствовалась тогда ещё не очень понятная и необъяснимая тревога, о которой пока не говорили вслух.
И только, один, совсем молодой, недавно избранный член правления фабричного профкома всё время просил слова. Но голос у него был неокрепший и сам он был очень пьяный, поэтому на него просто не обращали внимания. Когда бутылки опустели и уже никто не выражал желания добавить, молодой лидер слова добился. Кто-то громко выкрикнул:
— Дадим слово молодым!
Над столом повисла относительная тишина.
Молодой лидер встал, но, видимо от волнения и от желания сказать публике что-то очень важное, заготовленное им красивое выступление улетучилось, и он с трудом, с запинками начал:
— Что я хочу вам сказать… уважаемые товарищи…- и замолк, задумавшись, с высоко поднятым стаканом. Потом, словно проснувшись, произнёс то же самое. Так было три раза. Наконец, кто-то присутствующих не выдержал, и грубо ему сказал:
— Ты рожай уже, а то, что мы уважаемые товарищи, нам известно.
— Давай, молодой, не тяни. — Подбодрили его.
— Я хочу сказать, что все мы его дети. В том смысле, что мы, профсоюз, значит народ.
— Вышли мы все из народа, — подсказали ему. И кто-то добавил:
— Поэтому, пора на седало, дорогие товарищи.
Все дружно встали, гремя отодвигаемыми стульями, дружно потянулись к выходу. За столом остался только молодой оратор. Он, опустив голову, молча, плакал, вытираясь бумажной салфеткой.
* * *
Обо всей этой предыстории их танцевальной площадки, по местному топтуна или тырла, Веруська ничего не знала. Она пришла на фабрику, когда у «танцзала на ветру», как однажды назвал их тырло случайно забредший остряк-студент, была уже своя история, своя популярность, и своя слава, которую старшее женское поколение из соседних с рабочим общежитием хрущёвок считало дурной или, по крайне мере, сомнительной.
Хотя многие солидные тётеньки, не только жёны, но уже и бабушки, начинали свою сердечную карьеру именно здесь, и не всегда она была только воспоминанием об ушедшей, часто не очень целомудренной молодости, но иногда и началом семейной жизни. Квартира, в которой Веруська жила с родителями, была в другом районе, но мать об их общежитии была наслышана, и предостерегала Веруську.
— С танцами на тырле будь осторожна, а уж если решишь пойти, со своим бабьём не вздумай выпивать. Я знаю, они любят перед танцами заложить за воротник.
— Молодость свою вспоминаешь.
— Не груби матери. Такие как ты дуры, нараз залетают. Не дай бог принесёшь в подоле, и из общежития попрут, и отец домой не пустит. Куда пойдёшь?
— На вокзал, куда ещё? — шутила Веруська, но на глазах у неё наворачивались слёзы. Она знала, если что случится, отец не поймёт и не посочувствует. Это сознавать было очень горько.
Новый сезон на танцплощадке открыли в середине апреля, когда сошёл снег, высохли тротуары, проезжая часть улиц, и народ переоделся в туфли и осеннее пальто. С квартальной премии Веруська купила себе отличную непромокаемую куртку «цвет маренго» китайского производства и, с рук, почти неношеные, импортные джинсы. Вещи сидели на ней, как влитые. Общежицкие бабы ей завидовали. А мужики пялились, прямо ели глазами. Один парень прицепился к ней прямо в троллейбусе:
— В твоём прикиде, только девственность терять.
— Да, — сказала Веруська, — не по-доброму улыбаясь.- А если по морде?
— Шуток не понимаешь, дура? Дядя шутит. Шутю я! Парень на всякий случай отодвинулся на безопасное расстояние.
— Понимаю! Хочешь, я тебе один глаз для юмора шпилькой выколю? Вместе посмеёмся. Веруська достала из кармана шпильку для волос.
— Ненормальная, — парень протянул руку, чтобы отобрать у Веруськи шпильку, но в этот момент троллейбус дёрнулся и остановился. — Парень выпрыгнул на остановке, на прощание выкрикнув:
— По тебе психушка плачет!
— Запугала ты его, девочка. Нельзя так со слабым полом. Он же может после этого холостяком остаться или импотентом стать, — сказал кто-то из пассажиров.
В троллейбусе засмеялись.
— Сопливый ещё, а туда же, — буркнула себе под нос Веруська и решила вечером пойти на тырло, на танцы. Надо же обновками похвастать.
Но стоило ей об этом подумать, как сразу вспомнился Васёк. Два последних месяц она не видела его ни разу, и как будто стала забывать, и, может быть, со временем забыла, если бы несколько дней назад не встретила Васька у продовольственного магазина, в который она всегда забегала вечером, чтобы купить что-нибудь на ужин. Покупала Веруська обычно пакет молока и пару плюшек в хлебном отделе. Иногда маленькую пачку пельменей, чтобы съесть зараз. Сварить их можно было на общежитской кухне.
В тот раз в магазине выбросили варёную колбасу и Веруська ещё, отстояв очередь, купила полкило колбасы и буханку серого, чтобы вечером поужинать вместе со своими женщинами.
При выходе из магазина по обе стороны от крыльца стояло два круглых стола, причём столешницы каждого из них были укреплены на вкопанных в землю довольно толстых столбах. Был ли в этом конструктивный смысл (чтобы не утащили) или эстетическая задача, наверное, никто не задумывался.
Но, то, что в народе они получили сначала название мухоморов, а потом мужеморов было результатом коллективного творчества. Днём столы служили для того, чтобы женщины могли на них рационально уложить в своих сумках покупки, а вечером вполне соответствовали народным названиям.
И, действительно, вечером столы были обычно заняты мужиками, любителями на ходу коллективно раздавить полбанки, чтобы дома пришлось отвечать только за запах, но не за задержку с работы. Женщинам, выходящим с покупками из магазина, оставалось только со вздохом осуждения проходить мимо. А молодые девчонки, чтобы не быть объектом острот должны были пробегать. В тот день Веруська немного припозднилась, и, когда вышла из магазина, привычной компании уже не было. Только за одним столом стоял, а вернее полулежал мужик в распахнутой куртке и без шапки. Шапка валялась рядом.
Мужик спал, вцепившись обеими руками в края стола. «Прямо орангутанг какой-то,- усмехнулась про себя Веруська и решила поднять шапку,- простынет, ведь, не лето».
Но только Веруська за ней потянулась, как мужик приподнявшись на неверных ногах, и продолжая руками держаться за край стола, стал глазами искать шапку.
— Да, мы уже и протрезвели, только шапочку никак не найдём, убежала шапочка.- Засмеялась Веруська, подняла шапку и положила рядом с мужиком на стол.
— Да мы и не пили, чтобы трезветь, так похмелились малешка, — мужик придавил шапку к столу рукой и посмотрел на Веруську.
У неё перехватило дыхание, она узнала Васька. Наверное, это как-то отразилось на её лице, или Ваську показалось, что они знакомы, потому что он не то заигрывая, не то напрягая пьяную память, шутливо спросил:
— А вы, мадам, кого здесь ждёте? Милого дружка, насчёт познакомиться, или вас муж разыскивает? — Васёк потянулся к ней, и она, переложив сумку из правой руки в левую, неожиданно для себя, что есть силы, ткнула кулаком Васька в нос. У него из ноздрей обильными чёрными струйками побежала кровь. Васек подставил под них ладони и, наверное, не очень соображая, бормотал:
— Это серьёзно. Нет, это очень серьёзно! — Кровь быстро набиралась в ладонях, он стряхивал их, кровь попадала ему на брюки, на туфли… Он снова подставлял ладони, видимо, не зная, что ему предпринять.
— У тебя есть, платок? — спросила его Веруська.
— Платок? У нас всё есть, только почему на «ты», мы, что с вами знакомы? — Продолжал по инерции куражиться Васёк.
— Познакомимся, — Веруська со дна сумки достала платок и крепко прижала его к носу Васька, чтобы остановить кровь.
— Вот если бы ты меня, так крепко целовала, как бы я тебя любил. — Продолжал придуриваться Васёк, постепенно трезвея.
— Чего мы захотели, — сказала Веруська. — Куда тебя вести, инвалид?
— А куда же меня вести бездомного? — Васёк делает вид, что вспоминает и неверной рукой пытаясь приобнять Веруську, — только к тебе, больше некуда.
Веруська отбросила его руку и сильно толкнула Васька в грудь:
— Отвали, придурок! Топай домой, к своей бабе. Заждалась, поди.
— Бабы у меня никакой нет. По крайней мере, на меня записанной. А детишки возможно есть. Не ручаюсь. Может быть, встретимся, когда я умоюсь и малость протрезвею? Трезвый я бабам очень нравлюсь.
— Посмотрим. — Неожиданно для себя сказала Веруська и сама не поняла, то ли всерьёз, то ли чтобы отвязаться от пьяного. — Иди домой, а то чахотку какую-нибудь подхватишь, или замёрзнешь к чёрту. По утрам-то ещё подмораживает. — Веруська, не оглядываясь, быстрым шагом пошла в своё общежитие.
Спать она легла раньше обычного, но долго не могла заснуть. Вспоминала их первую встречу, когда Васёк налаживал у неё станок и как она отбила ногу, пнув его сумку с инструментом. Вспомнила, что он занимал у неё десять рублей до получки, а она дала ему только семь-всё, что было. А он, поганец, так и не отдал. Обещался в кино сводить. С «пломбиром»… Всё ещё ведёт…
Ничего в её воспоминаниях не было ни хорошего, ни такого, что, вообще, стоило помнить. Но в голове Веруськи они прокручивались, как интересное кино, которое хотелось смотреть много раз. Незаметно для себя она уснула, и проснулась так быстро, словно и вовсе не спала. Но голова была ясной, и на душе было легко и хорошо. Женщины уже встали и собирались на работу.
— Меня-то, почему не будите?
— Жалко было, больно хорошо ты улыбалась во сне. Да, ты сегодня, вроде, во вторую смену.
— Точно, а я совсем забыла. Тогда ещё посплю немного.
Женщины ушли на работу, а Веруська больше не заснула. Просто валялась в постели и думала, почему это бывает, что влезет человек в душу просто так, без всякой причины и никак от него не избавишься. Вот и она об этом Ваське знать не знала и ведать не ведала, да и разговоров было с ним-десять слов и то не подряд, а застрял он где-то у неё в душе и, вот, опять начинает мучить сердце.
А ведь и не вспоминала уже о нём, и думать забыла, так снова вынырнул. Да ещё в таком виде, что другая бы его за сто метров обходила, а она ещё сопли ему вытирала. Веруська со страхом подумала, что если бы жила не в общежитии, а на квартире, то, пожалуй, и к себе бы его привела. И умыла бы, и чаем напоила. Дура неизлечимая… Веруська вспомнила, как спрашивала мать, почему она вышла за отца, неужели выбора не было. Мать задумалась, а потом сказала:
— Разве в этом дело. Вырастешь, поймёшь. Понравится сатана, лучше ясного сокола. И весь сказ.
«Наверное-это у нас наследственное»- подумала Веруська, но это её огорчило. Она решила сегодня же вечером пойти на тырло. Если Васёк, действительно, не женат, то бывает там пусть и не каждый день.
«А, если женатый, значит не судьба. Но не будем все решать заранее». — Веруська открыла шифоньер, чтобы просмотреть свой небогатый гардероб.
* * *
На следующий вечер Веруська принарядилась и пошла на тырло. Народу было как всегда полно. Весна давала о себе знать. Но почему-то в этот день на танцплощадке не зажгли свет. А из музыки был один баян. Веруську несколько раз приглашали, но она отказывалась. Ей казалось, что стоит пойти с кем-нибудь, тут же появится Васёк и подумает, что она пришла на танцы не одна и не подойдёт. Лучше уж, как в песне: «Стоят девчонки, стоят в сторонке…»
Подходили молодые парни и мужики постарше, но она всем отвечала:
— Я не танцую.
Один молокосос обиделся:
— Не танцуешь, так спляши!
— Спляшу, если тебе мама сопли подотрёт.
Пацан, было, кинулся в драку, но друганы его придержали, оттащили подальше. Веруська поискала Васька в темноте глазами, постояла немного, потом подошла соседка из комнаты рядом, они немного потанцевали друг с другом, и пошли в общежитие. По дороге встретили соседкиного парня, и некоторое время шли втроём. Болтали, парень пытался острить, соседка хохотала, Веруське не было смешно и она всё время молчала. Парень спросил, чего это она такая грустная.
— А тебе-то что? — ревниво спросила соседка. — Видишь, девушка, не в духах. Пошли уже.- Они прибавили шагу, Веруська осталась одна. Ей, действительно стало очень грустно, она перешла на другую сторону улицы и стала думать какая она невезучая, и нигде ей нет места. Дома родители так часто лаялись, что им было не до неё. Думала, уйдёт из дома, заведёт свою семью и всё наладится. Оказалось, что и здесь нет для неё удачи. Были у неё знакомые девки, неделю походят с парнем и замуж выскакивают. Через месяц разведутся, и опять в поиске.
Веруська их не осуждала, время такое. Каждый живёт, как может, она бы и сама так не прочь, но не получается. И вроде бы ничего сложного: нашла, обняла, когда все на смене, в общагу привела. Нет, не выходит. На роду что ли так написано? Мать с отцом всю жизнь мучается, так мать хоть замужем. Ей, мать замуж рано выходить не советует, погуляй, мол, пока молодая. Как — будто её каждый день сватают. А так просто, с кем попало, тоже не хочется.
А тут ещё этот Васёк, вбила она его себе в голову, а он и как её зовут, поди, не знает. Они даже не знакомились. Оно конечно, чтобы денег на бутылку занять, знакомиться не обязательно…
Когда Веруська вспоминала про деньги, которые она заняла Ваську, ей почему-то всегда становилось стыдно. Ей казалось, что если бы Васёк узнал, что она об этом вспоминает, то решил бы, что она жадная, какой Веруська никогда не была. Она всем, и всегда готова была, как её мать, помочь. За что отец их не то, чтобы ругал, но часто повторял с намёком, что деньги, мол, «любят счёт».
Правда, сам, когда выпивал, деньги считал не очень. Бывало, после получки, когда отец возвращался домой хорошо поддатым, мать, всегда молчала, от греха. В пьяном виде отец был дурным. Он трезвым мать предупреждал.
— Ты ко мне пьяному не вяжись, утром отоспишься.
Мать совет усвоила, и утром этой возможности не упускала. В обличении отца была изобретательна и неутомима, иногда на это дело уходил не один час. Веруська чаще всего не выдерживала и убегала к подружке. Там тоже была своя напряженка, отец подружки работал с Веруськиным отцом на одном заводе и получка у них была в один день. Но разница была. Если у Веруськи в доме был дым коромыслом, то у подружки в квартире повисала гробовая тишина. И то и другое выносить было тяжело, и подружки убегали на улицу.
Веруська знала сюжет каждой ссоры родителей. Мать выпытывала у отца, сколько он пропил, и не пропил ли всей получки. Отец, сгорбившись, сидел на кухне, на табуретке, опустив голову, сложив на коленях тяжёлые руки, и молчал.
— Что ты молчишь, изверг? Оставил семью без средств к существованию и молчит. Где получка? Где деньги?
— Посмотри в кошельке, в карманах пошарь. Должны быть деньги, всего два раза и сбрасывались.
— С бабами гуляли?
— Господь с тобой, с какими бабами, тут от тебя не знаешь куда деваться.
— Тогда где?
— Отстань, не помню. Голова трещит.
— Хоть бы она у тебя пополам треснула.
— С кем останешься?
— Была бы шея…
После примирения, мать подогревала вчерашний суп, заваривала крепкий чай и звала отца за стол. Он садился умытым, с гладко причёсанными влажными волосами, слегка помятый и виноватый. Пока мать нарезала хлеб и разливала суп по тарелкам, отец на неё ожидающе поглядывал, крутил в руках ложку, и вздыхал. Мать, делала вид, что не замечает этого спектакля, продолжала накрывать на стол. Наконец, садилась сама.
— Чего мы так неровно дышим, небось, сердчишко прихватило?
— Давит чего-то…
— Где получку оставил, не вспомнил?
— Помню, пятёрку отложил, остальные прибрал, сунул куда-то. Куда, никак не вспомню. Ты бы плеснула, маленько для восстановления памяти.
— На какие шиши я тебе плесну? Ты заработал?
— Ну, заработал я, заработал, хватит издеваться.
Мать доставала из под фартука начатую бутылку и наливала ему немного в стакан. Отец выпивал, покрывался потом и начинал, молча энергично хлебать суп.
— Процесс пошел, — серьезно говорила мать.
Почему-то в этот момент Веруську охватывал такой приступ хохота, что она выскакивала из-за стола и бежала в комнату, чтобы отсмеяться.
Когда она возвращалась на кухню, там атмосфера была уже иной. Отец с матерью спокойно обсуждали повседневные дела. Это означало, что зарплата нашлась и что концерт окончен и начались обычные будни. Чтобы унять любопытство, Веруська спрашивала, нашлись ли деньги. Родители не сразу переключались на новую тему.
— А, деньги? Нашлись, — равнодушно говорит отец. — Да, они и не терялись.
— Представляешь, он зарплату в носок засунул, как ещё не потерял. А пропил он не пятёрку, как говорил, а десятку. Какие мы богатые, десятку псу под хвост.
— Может, хватит на сегодня, серьезно и уже не виновато говорил отец.
— И на завтра хватит, — огрызалась мать.
— Но может лучше не при детях. — Говорил отец.
— При каких это детях? Ты, наверное, забыл, — мать делала паузу, что у нас одна дочь, а детей больше не было и не будет.
Веруська знала, на что намекает мать, чтобы не быть свидетельницей давней родительской разборки уходила в комнату.
* * *
Когда Веруська ушла из дому в общежитие, то первое время чувствовала радость освобождения и какой-то не испытанной ранее лёгкости, возможности делать, что захочется, что душа попросит, но чем больше проходило времени, тем чаще хотелось домой. Конечно, неизвестные ранее заботы, которых она не знала, пока жила с родителями, делали её жизнь более напряжённой и интересной, формировали в ней взрослую женщину, но и лишали чего-то такого, что может дать только родительский дом.
Веруська не пыталась сравнивать, где и что было хуже или лучше, в её душе всё выстраивалось само собой. Но чем больше проходило времени с тех пор, как она ушла из дому, тем больше ей хотелось вернуться. Не физически, это было сделать совсем не трудно, иногда мимо своей пятиэтажки она пробегала несколько раз на дню, да и с матерью они пересекались часто. Хотелось вернуться в самое начало своей жизни, которую, как часто представляется молодым людям, она помнила чуть ли не со дня своего рождения.
Иногда Веруська с удивлением ловила себя на том, что она бы была не против, если бы у неё жизнь с мужем складывалась также, как у отца с матерью. Ей казалось, что в их отношениях было много игры, за которой почему-то каждый из них пытался скрыть свою любовь.
«Вот и Васёк, чем-то на отца похожий — думала Веруська грустно. Только где он тот Васёк, мелькнул перед глазами и опять исчез. Видно не судьба».
* * *
Апрель набирал силу. В конце месяца на дорогах появилась пыль и после тёплого ночного дождя на тополях распустились зелёные липкие листочки. Веруська почти каждый вечер ходила на танцплощадку, много танцевала, но от провожатых отказывалась. Да и куда её провожать, общага-то рядом. Правда, предлагали погулять, но Веруська, и здесь отказывалась, ссылаясь, на то, что надо было рано вставать на работу. На самом деле, ей никто не нравился. Парни не настаивали, но один видно обиделся:
— Смотри девка, пробросаешься!
Веруська ответила шуткой:
— Может, какой завалящий и на мою долю останется.
Иногда вместо танцев Веруська гуляла по улице с общежитскими девчатами. Но и здесь парни не отставали и Веруське приходилось уходить домой раньше других. Однажды, метров за сто до общежития, рядом с ней остановилось такси. Это было так неожиданно, что Веруська ойкнула от страха и отскочила в сторону. Она была на высоких каблуках и больно подвернула ногу.
— Совсем что ли сбрендил, придурок! Из за тебя, чуть ногу ни вывихнула.
— Прости, не хотел. . .
Веруська хотела отойти от машины подальше и вдруг вскрикнула от боли.
— Не шевелись. Я открою дверцу, ты облокотись и не двигайся. Я сейчас. Я помогу. Таксист обежал машину и Веруська увидела Васька. Он ловко подхватил её и осторожно устроил на сидение рядом с собой. Веруська молчала, стиснув зубы от боли.
* * *
Пожилая врачиха в форменной куртке, наброшенной на халат, стояла на крыльце травмопункта и курила.
— С чем везем? — спросила она Васька с легкой досадой.
— Нога, — сказал Васек, -подвернула девушка ногу.
— Дальше можешь не рассказывать, нога не голова, подождет. -Врачиха продолжала неторопливо курить, выпуская дым то длинной струей, то аккуратными кольцами. Это занятие доставляло ей маленькое удовольствие. – Ну, что, милая моя, сколько себе не внушай, что работа не волк, а работать надо. Заводи поломанную, посмотрим.
Словно ниоткуда появилась медсестра, такая же пожилая, как врачиха, но приветливая и разговорчивая. Она помогла Ваську положить Веруську на хирургический стол, ловко сняла с неё туфли, сунула их Ваську, сказала весело:
— Не потеряй, а то не рассчитаешься. Наши девки любят пофорсить, встанут на высокий каблук и воображают себя самыми красивыми, ноги до ушей, а не думают, что с высокого каблука высоко и падать. Ладно если только ногу сломаешь, вылечат? Похромаешь и перестанешь. А если на спину, да затылком навернёшься, так что и рожать не сможешь. Будешь всю жизнь лечиться. А без детей и мужика не удержишь.
— Кончай свою политбеседу, Филипповна, пусть молодой человек в предбаннике посидит. Когда надо будет позовём.
— Я в машине буду.
— Хорошо, я крикну, когда надо будет, у меня голос звонкий. — Сказала медсестра.
— Давай Филипповна, командуй, — улыбнулась врачиха.
* * *
— Готово? – Услышал Васёк сквозь дрёму голос медсестры.
–Всё нормально-, сказала она действительно радуясь, что у этой молодой девахи нет ничего серьёзного. –Дальше доктор раскажет.
— Спасибо, что слово мне даёшь. Действительно, перелома нет, вывих. На всякий случай наложили гипсовую повязку. Через неделю можите обратиться в поликлинику. Бумагу я написала.
Васёк поудобнее усадил Веруську в машину. Спросил:
— Куда теперь?
— В общагу, куда ещё? Или есть варианты? – Решила пошутить Веруська.
— А, ты на каком этаже живёшь?
— На четвёртом, а что?
— А то, моя дорогая, что после двух смен за рулём, не светит мне тащить тебя на пятый этаж.
— На четвёртый, — поправила Веруська.
— Да, ты не обижайся. Если надо, я тебя хоть на десятый доставлю. Просто устал я очень. Вот и вырвалось. А знаешь, у меня есть вариант. Я здесь рядом снимаю комнату, это на первом этаже. Переночуешь у меня. А я поеду к товарищу. У него свободная кровать есть. Завтра с утра доставлю тебя в общагу в лучшем виде. -Васёк выглядел таким измученным, что Веруська неожиданно для себя, согласно кивнула.
Комната Васька была совсем малеькой, без окна, больше похожей на кладовку. Кроме старого дивана, стояли в ней такого же возраста стол и два стула.
“Значит гости иногда приходят… А может и девки, — ревниво подумала Веруська.
Васёк, между тем, сходил на хозяйскую кухню, принёс бутылку кефира, полбатона и яблоко.
-Я дома редко ужинаю, обычно ем в какой-нибудь забегаловке поблизости, или, в крайнем случае, в буфете на вокзале. Хозяева у меня два старика, и ей и ему, кажется уже под девяносто, так они, наверное, святым духом питаются. Холодильник у них вечно пустой, что они варят, я не знаю, не видел. Знаю, что ходят иногда в благотворительную столовую. Оба инвалиды. В общем, беднота. Живут бедно, но, как говорится, весело. А что им ещё остаётся… Я пришёл, чтобы сказать, что постель и одеяло в диване. А утром решим, как жить дальше.
* * *
После ухода Васька, Веруська долго не могла заснуть. Побаливала нога и она никак не могла для неё найти удобного положения. Но думала она не об этом. Встреча её с Васьком казалась ей не только необычной, но как-будто кем-то, каким-то хорошим человеком, а может быть даже и не человеком, устроенной. Словно кто-то свыше то сводит, то разводит их, и наблюдает, что из этого получится. Неожиданно вспомнились слова Васька, которые он как бы и не к месту сказал Веруське, когда вёз её в травмпункт. Она их хорошо запомнила, но не сразу смогла понять для чего он это сказал.
-С тобой прямо беда,- сказал тогда Васёк, — где катастрофа, там и ты. Помнишь, у тебя что-то со станком там было, когда мы с тобой познакомились? А потом у магазина ты за алкаша меня приняла. И вот случай, нарочно не придумаешь. И, когда деньги я у тебя занимал, хорошо помню. Всё хотел отдать, но никак не получалось с тобой пересечься. Ты какая-то неуловимая.
— Это ты неуловимый, — ответила тогда Веруська. Хотела сказать с иронией, а получилось с упрёком.
Несколько минут ехали молча. И вдруг, то что сказал Васёк, приобрело для Веруськи волнующий и неожиданный смысл: он признавался ей в любви. И в тот момент, когда Веруська это поняла, Васёк начал говорить о жизни.
— Жизнь такая, прирасти к месту не даёт, чуть что, с корнем вырывает. Работал в Киселёвске на шахте, ногу сломал, страховку не выплатили, сам говорят, виноват, не положено. А вроде бы почти угнездился. Жена была, квартира и двое мальчишек.
— У тебя и жена была? — спросила Веруська.
— А ты, наверное, думаешь, что я несовершеннолетний, — засмеялся Васёк. — Ну, не жена, пол жены, скажем так. И двое детей, правда, не моих, но двое хороших парнишек. Одному десять, а другому четырнадцать. Были у меня план свить постоянное гнездо, но не получилось, как видишь. Хотя женщина была хорошая, ничего не скажу.
Мужика у неё придавило стойкой в забое, она за него пенсию получала, и единовременное пособие им выдали неплохое. Вот они собрались втроём и посчитали, что вчетвером с её доходами и с моей зарплатой жить можно, а вчетвером без моей зарплаты никак не получается. Особенно если учесть, что ко мне приходят дружки, хоть и со своей бутылкой, но закуску им ставить надо. Все было справедливо, я поблагодарил её за любовь, за приют и начал менять места жительства. Вот и до вас добрался.
Думал, на фабрике приживусь, работа мне нравилась, я вообще-то в любой технике разбираюсь. Но прокормиться на фабрике мужику невозможно. Если с бабой, ещё туда-сюда, а одному никак. К тому же в общежитии я жить не могу, пожил в разных и не один год. И больше не могу: каждую ночь, то пьянки, то драки, если не убили, то повесился, или от водки сгорел. А мне покоя хочется. А на съёмную квартиру на фабрике не заработаешь. Я болтаю, а ты молчишь. Ты меня прости, я забыл, как тебя зовут.
— Как меня зовут, ты не забыл, а просто не знал, потому, что мы с тобой не знакомились. По паспорту я Вера, а отец с матерью зовут Веруськой.
— А меня всю жизнь, с детства- Васёк. Больше никак никогда и не называли. Не заслужил видно. Да, я и не претендую. А как нога, Вера? — Можно я так тебя буду называть, пока нога не заживёт.
— А я тебя буду звать Васьком. Мне имя Василий почему-то не нравится. — Веруська засмеялась.
* * *
Через две недели Веруська вышла на работу. Женщины ей завидовали и обсуждали эту новость чисто по-бабски.
— Везёт же людям. И погуляла и мужа отхватила. Теперь её на работу и с работы мужик на машине возит. Трамвай ей уже не транспорт.
— Действительно повезло, Любка из третьего цеха уже третий раз замужем, а всё и на работу и с работы пешком ходит.
— И потом, кто видел Веруськиного мужа? Это же Васек, наладчиком у нас работал. Поперли его, забулдыга несусветная.
— Муж, какой муж? Гражданский… Приходящий, значит. Квартиру пополам снимают, чтобы дешевле. Машина у него, говорят, правда, есть.
— Ну, машина у него… Толи в аренду взял, толи на хозяина работает. Таксует, пятаки сшибает, а Веруська ходит, нос задрала. Вот залетит, тогда поглядим.
* * *
Веруська, между тем, переживала счастливое время. И на работе летала, и домой шла с настроением, готовила ужин для Васька и для себя. Для семьи, одним словом.
Васек возвращался с работы поздно, но она никогда не ложилась спать до его прихода. Кормила его ужином, расспрашивала, куда ездил, кого возил.
Он обычно отмахивался: куда скажут, туда и еду. Хорошо, когда обратный пассажир попадёт, а то гонишь порожняком, пыль глотаешь. Вчера два сопляка сели, довёз их до Солнцевки, давайте рассчитываться. Один молчит, голову опустил, а другой расхорохорился: достаёт кастет и нагло меня спрашивает:
— А сдача, дядя, будет? Пришлось вспомнить десантный опыт, поймал его за кисть наперелом, у него кастет-то и вывалился. Игрушечный оказался. Напарник сразу в бега, я за ним. Но так для виду. А другой со страху даже из кабины не вылез.- Не сдавайте, дядя, в милицию, у меня уже есть привод.- Я его за шкварник, выбросил из машины, пинка дал для убедительности. Если они попутку не поймают, шагать им бедолагам до города километров двенадцать.
— А, тебе их вроде бы жалко.
— Да, не то чтобы жалко. Молодость вспомнил. Сам такой же был, пока в армию не сходил.
— А после армии что, поумнел?
— Повзрослел.
— А меня защитишь, если понадобится?
— Там будем поглядеть. Давай лучше спать. А то мне завтра рано вставать. Заказ есть.
Так проходили их вечера, вроде привычно и обыденно. Но им было хорошо.
* * *
Однажды утром, когда они пили чай, перед выходом на работу, Веруська, как бы, между прочим, сказала.
— Вчера на работе меня почему-то подташнивало.
— Может, съела чего?
— Бабы говорят подзалетела.
— Подзалетела? — Васек задумался.
— Так что будем делать, Васек?
— Что делать? А что делать… Регистрироваться и рожать. Что же еще делать? Мы с тобой не алегархи, чтобы иметь внебрачных детей.
— А я тебе, заешь, что скажу?
— Догадываюсь.
— Я тебя очень люблю, Васек!
— Правильно, так и должно быть.
* * *
А недели через две Веруська сказала мужу.
— Мать моя приходила, ругалась очень. Вроде бы свекровь шла из церкви и видела, как мы с тобой выходили из загса под ручку.
— Ну и что.
— Говорит это не по-русски и не по христиански, чтобы дети женились, а родители не знали.
— Вот тебе раз, опомнилась кума, когда пятница прошла. Она что у тебя в церковь ходит?
— Не знаю, не видела ни разу.
— Ну и что теперь?
— Приглашают нас, говорит, надо, чтобы родители благословили. А то у нас с тобой счастья не будет.
— Так в чём проблема? Сходим, если надо. Батя – то твой водку пьёт?
— За шиворот льёт.
— Тогда всё в порядке. Возьму две полбанки и вперёд. Ты говорила, что суров он у вас больно. Из-за этого и из дому ушла?
— По глупости всё это, Васёк. Дура, была.
— А теперь начала умнеть? Это обнадёживает.
— Бабушка у нас, мать отца, очень своеобразная.
— Вытерпим.
— А отец, мать сказала, вместе со своей мамашей подарок нам готовят. Аж, не верится. Она всегда такой скупой была, мать рассказывает, ни одной конфетки мне не купила.
— А мы ей купим. Ты, главное, не боись.
* * *
Собрались через неделю, вечером. Цветов молодые решили не покупать. Кто-то подсказал, что им родители и друзья должны были преподнести. А так не по правилам. Знакомились тоже без церемоний. Отец Веруськи вышел на встречу, протянул руку Ваську.
— Михаил.
— Василий, — ответил Васёк.
— И давай без этих, без обнимушек. Обниматься будем, когда напьемся. — Он взял у Васька бутылки и поставил на подоконник. – Резервный фонд.
— Садитесь, молодые. Хоть вместе, хоть врозь. Теперь, когда штамп в паспортах есть — это не имеет значение. Рассаживайтесь, кому где удобно. Только бабушку посадите так, чтобы телевизор ей было видно. Звук включать не надо, она уже давно глухая как пень.
Всей семьей сидели недолго. Первой вылезла из-за стола бабушка, прилегла в соседней комнате на кушетке и вскоре захрапела.
— Вот так всегда, — сказал отец Веруськи. – Глухая, а храпит так, что телевизор не слыхать. Хотя я только футбол смотрю, а его можно смотреть и без звука. Слушай зять, как это ты насмелился в такое-то время? Нашу породу потихоньку сживают со света, а ты женился, так сказать, законным браком, да еще дите ждете?
— Так, как-то…
— Да ты не думай, что я с подвохом, тебя хвалю. Давай за мою матушку глухую, замечательная женщина. Вообще, за всех наших женщин. По одной, но по полной. И песняка. У меня любимая про коногона. Кореш у меня, когда я в армии служил, был шахтёром. А теперь, вот, зять. Везёт мне. Но сначала выпьем. А потом хором.
— Вот поезд мчится по продольной, по темной узкой и сырой. . .
Получилось у них не совсем влад, но так громко, что закачались и стали позванивать стекляшки на люстрах.
— Давай, мама, пойдем в другую комнату. — Сказала Веруська. — Мужики наши так орут, что не поговоришь.
Они ушли в спальную, прикрыв за собой дверь.
-Хорошо поем, дружно, — сказал тесть. – Тебя Василий зовут, точно? А меня Михаил! Давай, Василий, по последней, чтобы на утро на опохмелку осталось. Я, вот, уже на пенсии третий год, а в запое ни разу не был. Потому что на утро всегда оставляю. Последний тост! Общий! За наших баб, за нас с тобой. И за нашу любимую власть, чтобы у неё всю оставшуюся жизнь понос не прекращался, пусть страдает хоть от дизентерии.
А теперь, главное, почему мы с женой решили с вами, нашими родными детьми встретиться. Вы ждете дите, а мы с матерью внука или внучку – это неважно. А жить вам, собственно, негде. Про власть я уже сказал, от нее рабочему человеку ждать нечего. У неё то понос, то золотуха. Но как наши отцы пели: «Врагу не сдается наш гордый Варяг». Вот мы с матерью и решили, что свою квартиру подарим вам, а сами перейдем жить к бабушке. Пусть это будет наш свадебный подарок. Все, зять, заметано!
Валерий Мурзаков
Валерий Мурзаков
БАКЛАЖАН
Никто толком не знал, как его зовут, но откликался он на кличку Баклажан.
У него была необъяснимая тяга к знакомству, точнее сказать, к ритуалу знакомства. Стоило появиться в магазине новому лицу, как он мог бросить работу и, вытерев руки о темный засаленный спецовочный халат, идти к нему через весь зал.
Странность эту его знали и добродушно над ней посмеивались.
Если посреди магазина стоял брошенный без присмотра товар, то это значило, что Баклажан в очередной раз решил познакомиться.
Знакомясь, он так невнятно проборматывал свое имя, что трудно было понять — Валя его зовут или Ваня, а может быть, Толя. Впрочем, это как будто и не имело значения, потому что, в конце концов, все звали его Баклажаном.
При знакомстве он с торопливой готовностью протягивал несоразмерно огромную для его роста и сплошь покрытую бледными веснушками, свежими и старыми струпьями руку.
Женщин охватывала легкая паника, будто не к человеческой ладони надо было прикоснуться, а довериться доисторической лапе. Однако, благополучно пройдя не очень приятное испытание и забыв про него, они и спустя долгое время нет-нет, да и вспоминали эту корявую руку, которая не то чтобы успела согреть, а словно облучила мгновенным сухим теплом.
И почему-то странное воспоминание необъяснимо долго мучило сердце.
Мужчины, знакомясь с Баклажаном, напружинивались, ожидая железного рукопожатия, но натыкались на равнодушную твердость, словно неживого предмета, наподобие доски, о которую, казалось, ненароком было можно больно занозиться.
Это вызывало мгновенное раздражение и неприятие.
Баклажан смутно чувствовал реакцию и пытался оправдаться, но получалось у него это как-то бестолково, невпопад; говорил он всегда нечто очень отдаленное от момента:
— Я, что бы ни взялся работать, обязательно поранюсь. Или козонки посбиваю, или ладонь рассажу. И всегда в кровь…
Но эти его признания не вызывали у мужчин сочувствия, и он, смущаясь, замолкал и замыкался.
В перерывах, когда у него нет работы, он обычно сидит в пристройке, в закутке между пустых ящиков, погруженный в себя, вспоминает. Воспоминания его мутные, как туман, неопределенные. На лице у него блуждает отрешенная улыбка. Так улыбаются иногда очень старые люди, ничего уже не ждущие от жизни и счастливые тем, что живы сегодня и, может быть, будут живы завтра, хотя Баклажан человек еще сравнительно молодой, ему нет еще и сорока.
Случается, что он задремывает и тогда не сразу слышит, что из глубины магазина его начинают звать. Кричат, как в лесу:
— Баклажан! Ба-кла-жа-а-а-н!
Настойчивый этот зов, раздробляясь о пустые фляги, металлические ящики с посудой, то, резонируя, то, приглушаясь, проникает, наконец, в его дремлющее сознание, с его лица сползает благодушная улыбка, и оно становится болезненно-тревожным, а в глазах появляется такая потерянность и боль, что даже самый благополучный человек, взгляни он на Баклажана в эту минуту, почувствовал бы если не тревогу, то, по крайней мере холодок уязвимости в душе.
Баклажан, однако, довольно быстро приходит в себя и идет в торговый зал, шаркая по бетонному полу расшнурованными стоптанными туфлями, безучастный, равнодушный и исполнительный.
Второй год он ведет трезвую жизнь, но совсем не рад ей. Иногда местные алкаши его выпытывают, как ему теперь живется, и Баклажан равнодушно, но предельно честно отвечает:
— Никак!
Ему предлагают выпить. Но он отказывается:
— Мне лучше не будет.
Его понимают и ободрительно хлопают по спине:
— Молодец!
Баклажан на похвалу реагирует тупо, как человек, не окончательно проснувшийся.
В магазине он единственный постоянный рабочий, самый ценный кадр и уже ветеран. Он пришел сюда прямо из больницы и вот задержался. Другие рабочие едва дотягивают до получки. Баклажан с каждым из них проводил ритуал знакомства и помнит всех поименно. В свободную минуту продавщицы любят с ним играть.
— Баклажан? — спрашивает кто-нибудь из них. — А вот помнишь, был у нас такой кривобокий с фиксой? Недели не проработал.
— Ну.
— Как его звали?
— Юний Феодосьевич.
— Он грек, что ли, был?
На этот вопрос Баклажан не отвечал. Для него было несущественно, к какому роду-племени принадлежал Юний Феодосьевич.
— А этот наркоман, у которого все руки были исколоты, его как звали?
— Андрюша, — коротко говорил Баклажан, и в голосе его слышалась ласковая нотка.
Эксперимент этот можно было продолжать до бесконечности. Баклажан помнил не только рабочих, которых за это время прошло через магазин не менее десятка, но, казалось, и всех случайных людей, с кем ему за это время приходилось знакомиться.
-У тебя, Баклажан, не голова, а Дом Советов, тебе бы министром быть, а ты крючком ящики с кефиром подтаскиваешь.
— Ага,- безразлично соглашается Баклажан, и в его безразличии гордыня человека, окончательно опустившегося и махнувшего на себя рукой. Но гордыня его так глубоко спрятана, что большинство ее не замечает и считает Баклажана попросту малахольным. И как малахольного его жалеют, но и презирают слегка, и постоянно над ним насмехаются.
Особенно старается кассирша Ольга: она пышна, ленива и не очень опрятна, у нее постоянно размазана тушь на глазах, будто она только что поплакала. Иногда старушки из покупательниц предупредительно ей на это указывают.
И тогда магазинный шумок мгновенно перекрывается ее мощным голосом.
Все как по команде поворачиваются к кассе и встревожено слушают:
— Еще чего, стану я плакать. Что, меня мужики мало любят? А глаза у меня такие от природы. Есть бабы, как ни берегутся, вечно в заляпанных чулках ходят, а у меня, по какой бы грязи я ни прошла, ноги всегда чистые.
— Во! — Она открывает дверцу кассы, предлагая желающим убедиться.
Все это проделывается с таким потрясающим простодушием и наивностью, что верится — мужики ее действительно любят, хотя бабочка она далеко не первой свежести.
Если рядом оказывается Баклажан, то Ольга мгновенно переходит на трагический шепот, который слышен в самом дальнем конце магазина:
— Только Баклажан меня не любит. Что я тебе сделала плохого, Баклажан?
Равнодушный ко всяким насмешкам и помыканиям, на Ольгины подначки Баклажан почему-то реагирует болезненно и старается уйти.
— Я не переживу, — кричит Ольга ему вслед плаксивым голосом. И хотя шутка повторяется многократно и уже должна была бы надоесть, она имеет постоянный успех. Продавщицы забывают про очередь и с видимым удовольствием наблюдают, как Баклажан, нервно шаркая своими растоптанными туфлями, спешит скрыться в своем убежище. Магазинной публике этот спектакль также доставляет неизменное удовольствие. Баклажану советуют не теряться, а брать Ольгу в оборот, Вон она какая с осени закормленная. Даже директриса, умеющая держать с продавщицами значительную дистанцию, а Баклажана вовсе не замечающая, в этом случае снисходит до шутки.
— Ты у нас самый популярный мужчина. Тебя надо спешно
устраивать, а попросту женить, а то можешь набезобразить в моем хозяйстве.
Представляю, что со мной будет, если мои девки враз запросятся в
декрет.
Она игриво грозит Баклажану бледным ухоженным пальцем, озаряет его очень качественной пластмассово-золотой улыбкой и пытается потрепать по небритой щеке. Баклажан привычно для этого случая громко клацает зубами. Но директриса всегда молодо ойкает и слегка приседает. Лицо ее начинает розоветь, теряя суровую бледность начальственного превосходства, и вполне можно допустить, что ее, как и Ольгу, тоже любят или, по крайней мере, любили в совсем недалеком прошлом.
Баклажан, наконец, скрывается в своем убежище, присаживается между ящиков на корточки и сидит неподвижно, закрыв лицо руками. В таком положении он может находиться очень долго, пока его снова не позовут из магазина.
* * *
Так протекала его жизнь изо дня в день, и мысли его, казалось, не шли дальше того, чтобы подтянуть крючком из склада металлические ящики с бутылками молока или кефира.
Была в безразличной механистичности его существования какая-то смутная угроза, но никто не знал этого. И всем казалось, что быть поводом для насмешек и немудрящих шуток как раз и есть главное назначение Баклажана в жизни.
Никто никогда не слышал, чтобы он говорил о прожитом, о детстве, например о матери, или о жене, если она у него была.
Да никому это было и не интересно.
Однажды в конце рабочего дня Баклажана вызвала к себе директриса. Послали в закуток за ним Ольгу, и та, осторожно пробравшись между ящиками, застала Баклажана в его излюбленном положении. Она простояла над ним минут десять. Баклажан за это время ни разу не пошевелился, не подал никаких признаков жизни. Ольгу охватил ужас, ей показалось, что Баклажан мертв и шутка, которую заготовила она для него, могла быть шуткой над мертвецом. Ей захотелось убежать, закричать, но она продолжала стоять как загипнотизированная, пытаясь отыскать в Баклажане малейшие признаки жизни. Но он был неподвижен, как скорчившаяся мумия.
Тогда, превозмогая страх, Ольга тронула его рукой. Баклажан поднял голову, и она увидела, что он жив и даже не спит.
— Ты что здесь сидишь, как йог? — с трудом выдавила из себя Ольга, но тут спазмы перехватили ей горло, и она бросилась прочь по коридорчику из пустых ящиков, больно ударяясь об углы и обдирая руки.
Продавщицы на нее накинулись с расспросами, но ничего не могли толком добиться. Ольга заходилась в беззвучных рыданиях и на вопрос продавщиц, не пытался ли ее Баклажан как-то в укромном углу обидеть, отрицательно качала головой, но начинала рыдать еще сильней.
Из своего кабинета, гневно стуча каблуками, пришла директриса. Она остановилась против Ольги и, не обращая внимания на ее слезы, требовательно спросила:
— Ну?
Ольга судорожно двигала губами, продолжала вздрагивать и ничего не могла ответить.
— Ну, хорошо! — сказала директриса.- Раз никого нельзя послать, я сама.- И она решительно двинулась в складское помещение.
Ее проводили молча, со злорадным страхом, а Ольга даже сделала рукой вялый жест, который, правда, трудно было истолковать.
Ждали недолго и были слегка разочарованы, когда в дверях сначала появился Баклажан, а следом директриса, энергичная и злая.
Она не снизошла до разговора с продавщицами и только красноречиво взглянула на часы, хотя дело было перед закрытием, и магазин был почти пуст.
— Во, змея,- сказал кто-то из женщин, когда стук ее каблуков затих в глубине магазина.
— А Баклажана-то она куда повела?
— Знакомиться. Видали, какая краля к ней зашла. Как раз по нему.
Все принужденно, как-то вяло посмеялись, а Ольга, уже было успокоившаяся, снова начала всхлипывать, может быть, она снова мысленно увидела Баклажана сидящим в своем, похожем на склеп, углу или представила, как он будет держать холеную руку этой крали в своих огромных корявых ладонях, и в первый раз усомнилась в своей неотразимости.
Баклажан же в эту минуту действительно протягивал директрисиной приятельнице свои доисторические лапы и косноязычно произносил свое имя.
Приятельница директрисы была женщиной подчеркнуто молодой, вызывающе красивой и очень опытной. Такой опытной, что познания директрисы (а она тоже кое-чего успела в этой жизни повидать) соотносились с познаниями ее моложавой приятельницы как информация, заключенная в букваре, соотносится с информацией энциклопедического словаря.
Если бы в нашем обществе была принята такая классификация, то директрису при ее обширных знакомствах и связях можно было отнести все же лишь к женщинам с ограниченным доступом. Подруга ее, несомненно, была женщиной с доступом неограниченным. Это было видно во всем: в ее прическе, в ее помаде, маникюре, в ее загорелых коленях, в позе, в которой сидела на директорском столе. В том, как она курила и щурилась, но главное — это было в выражении ее глаз: они были спокойные и сосредоточенные, как у зверя, и с предельно ясным пониманием цели. И еще в ее глазах было то, что зверю недоступно,- она всему знала цену.
Цена директрисы была совсем не такой, чтобы она стоила ее визита, но так случилось, что очередной любовник приятельницы — известный в городе человек и большой начальник — легкомысленно, по руководящей привычке хотел скомандовать ей: «К ноге!» Она посмотрела на него своим спокойным и ясным взглядом и попросила остановить машину. Рядом оказался магазин, в который она вошла, а большой начальник и известный в городе человек выйти не решился.
Директрисой магазина оказалась ее приятельница. Вообще большинство директрис магазинов города были ее приятельницами. Она решила только наказать своего властолюбивого друга и кое-куда позвонить, чтобы за ней заехали, но директриса начала навязывать ей свой продуктовый дефицит. И хотя он был не ахти какой, чтобы не обижать директрису, она решила не отказываться и благосклонно кивала и улыбалась, когда та набивала ей картонную коробку. Она позвонила по нескольким телефонам, но, как назло, никого не оказалось на месте. С досады она несколько раз пнула заботливо собранную коробку и весьма забористой матерщиной высказала то, что она думает о большом начальнике и известном в городе человеке, и вообще обо всем, и обо всех.
Видавшая виды директриса и та на минуту опешила перед знаниями и раскованностью своей моложавой приятельницы.
— Ну а ты, что стоишь, как… Наворотила жратвы, будто я корова. Наела себе вымя, старая коза, думаешь, и все только к этому стремятся. Ты бы хоть сообразила: куда я с твоим харчем? Ну, чего пялишься, чего губки поджимаешь? Поди, думаешь, что я тебе в дочки гожусь. Да я тебе в бабушки гожусь, поняла? Что ты видела? Только сладко жрать да обэхээсников соблазнять, чтобы тебя не прижучили за то, что ты
трудящихся обжуливаешь. Ну что глядишь? Может, не обжуливаешь? Что смеешься? Я не шучу. И вообще в каждой шутке есть доля шутки. Не поняла? Вот я сейчас на твой старый горб навьючу коробку, тогда поймешь. И погоню тебя вдоль улицы, да вот этими счетами тебя по твоей раскормленной корме. Вот будет весело.
— Давай такси вызовем,- директриса с готовностью стала набирать номер.
— Только на такси мне ездить не хватало, я тебе что, совслужащая какая-нибудь? Ну доеду я, а на пятый этаж твоя коробка на крыльях взлетит? Или таксисту ее отдать?
И тут директриса вспоминает о Баклажане.
— Да я тебе сопровождающего дам, мужчина экстра-класс, Ты таких не видела.
— Таких нет.
— Не поняла?
— Мужиков, говорю, таких нет, которых я не видела.
— Ну, посмотрим…- сказала директриса и, энергично стуча каблуками, пошла в торговый зал, послать за Баклажаном.
Приятельница ее набрала еще несколько номеров, но ответил ей через секретаршу только управляющий строительным трестом. Он был совсем старый человек, и она с ним познакомилась, когда вдруг решила полностью переоборудовать свою трехкомнатную квартиру. Теперь квартира была оборудована, и она некоторое время раздумывала, слушая в трубке его прерывистое дыхание, стоит или не стоит к нему обращаться. И только после того, как он трижды повторил: «Слушаю вас!», она коротко бросила в трубку: «Привет!»
— Лиза! — радостно узнал он ее.
— Элизабет,- поправила она и положила трубку. Ей было лестно, что этот седой дядька, которого она не видела больше года, узнал ее сразу, по одному слову. Это ее даже развеселило.
— Элизабет, Элизабет, — пропела она и, молодо спрыгнув со стола, сделала несколько танцевальных движений. В это время в кабинет вошли директриса и Баклажан.
— Ну вот, наконец-то. Явились, не запылились.- Она оценивающе бесцеремонно посмотрела на Баклажана.- Поглядим, что у тебя за антиквариат. Ты смотри, он сразу руки тянет, какой разбитной малый. Ну, здорово, здорово! Этот, значит, будет сопровождателем. Ну, ну! Этот донесет. Из этих лап не выпадет… и не выпадешь. Ты сама-то как, не пробовала?
Директриса сделала вид, что не слышала последней реплики, она коротко взглянула на Баклажана и подтвердила сухо и строго:
— Донесет, Елизавета Васильевна, куда скажете.
— Сколько раз тебе говорила, зови меня просто Лизой, а то и в самом деле подумают, что я старше тебя.
— Хорошо, Елизавета Васильевна,- еще суше сказала директриса.
— Ты что кобенишься? Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это, и за это, и за то, что целуешь горячо. Вот как надо. Правильно я говорю, а, молодой человек приятной наружности? Кстати, как его зовут? Он что-то тут бормотал, я не разобрала.
— Баклажан! — сказала директриса.
— Чудесное имечко. Синенький, значит. Восхитительно! Не возражаешь, если я тебя буду звать просто Жаном? Ну и лапы у тебя, Жанчик, должна я тебе сказать. Ты тигроловом не работал? Жаль, экзотическая профессия, она бы тебе очень подошла. Ты можешь меня называть Элизабет. Не возражаешь?
— Ладно.
— Слышь, Алька, он не возражает. Он у тебя всегда такой покладистый?
— Слушай, Лизавета, прости, дорогая, я тут маленько занята. Рабочий день еще у меня.
— А у меня выходной, что ли? Не надо при мне из себя начальницу корчить. Я пришла, и я твой рабочий день. Ясно?
— А ты можешь идти, понадобишься, позовем, да халат переодень, наконец,- директриса махнула Баклажану.
— Отменяю! Жанчик пусть останется. Что это за отношение к кадрам. Ты у меня допрыгаешься, Алька. Я тебе кислород вмиг перекрою. До меня дошли слухи, что ты тут плохо с народом обращаешься; продавщицами помыкаешь, грубишь. А народ у нас хороший, остроумный, с выдумкой. Баклажанчик наш, он хоть и примятый и маленько грязноватый, а нас с тобой хорошо понимает и насквозь видит. И в душе он тигролов. А ты не ценишь. Ценить надо кадры, приближать, а не гнать, поняла, Альбина Митрофановна? Хочешь, Жанчик, я тебя приближу. Я, между прочим, все могу, не то, что твоя Алька. Припрячет кусок масла, и сама с собой шепотом разговаривает. Ну, что ты скуксилась? Авторитет твой пострадал? Наплевать мне на него и растереть. Я к ней с базы приехала! С базы! Усекаешь, Алька? Вот и проглоти пилюльку. Улови разницу. А Жанчик, он смышленый, он сразу дотумкал, что к чему. Понял, мальчик?
— Если Альбина Дмитриевна скажет — донесу.
— Каков парняга, каков кадр. Я бы за один такой ответ премию ему выписала. А ты не ценишь. Слушай, подруга, я у тебя, его забираю.
— Забирай…
— Насовсем, поняла? Жанчик, тут нам Альбина харчик где-то завернула. А ты, Альбина, звякни Тырлову, пусть он за мной машину пришлет. Не хватало нам с Жанчиком на такси, как люмпенпролетариям, раскатывать.
Директриса начала послушно набирать номер.
— Крути, не переводя духа, а то мы с Жанчиком от тебя устали. Нам еще за моющим средством заскочить нужно. Его ведь простым шампунем не отмоешь. Ишь как ты свой кадр запустила: и небритый он у тебя, и немытый, а ведь уникум, антиквариат настоящий. У меня на базе всякие есть, а такого не припомню. Просто нет такого, и ни у кого нет. Где ты его раздобыла?
— Сам пришел…
— Сам пришел, так ты цени. Создай условия для возрождения. Ты взгляни, какие у него лапы. Да он тут вас всех передушить может, если захочет. Ты еще пожалеешь, что потеряла такого мужчину.
— Какой уж там мужчина, оболочка одна.
— Ничего, лапы вон сохранились. Может, и еще что. Ты ведь проверяла. Признайся?
— Ну, ты даешь, Лиза!
— Елизавета Васильевна… Так лучше. Ты как-то момента, Альбина, не чувствуешь. Надо владеть обстановкой и настроение чувствовать… Не чувствует она, правда, Баклажан?
Баклажан молчит и лишь выжидательно переминается с ноги на ногу.
— Он у тебя, почему молчит? Прямо сфинкс, а не человек. А может, ты мне куклу подсовываешь, не заводной он у тебя случайно? Мы тут о нем в откровуху гутарим, а он хоть бы тебе что.
Зазвонил телефон. Директриса взяла трубку и, с трудом скрывая радость, сообщила:
— Елизавета Васильевна, за вами машина приехала.
— И очень чудесненько. Это мы забираем.- Она показала на коробку и на Баклажана наманикюренным пальцем. Раскачивая красивыми бедрами, дошла до дверей, весьма артистично взмахнув ручкой, улыбнулась директрисе:
— Чао!
— Ты что, Баклажана, в самом деле, забираешь? — встревожено сказала директриса, когда тот, подняв картонную коробку, двинулся вслед за Лизой,- С кем же я план-то делать буду? Да ты шутишь.
— С любовью не шутят. Пошли, Жанчик! — Лизавета пропустила Баклажана вперед и подчеркнуто осторожно прикрыла за собой дверь.
— Ну, чумичка! — облегченно вздохнув, сказала директриса, — Чума настоящая. Но у нее сила. Если бы у меня была база,- лицо директрисы сделалось мечтательным и даже похорошело.
— Но тюрьмы Лизке не миновать. Это как пить дать. А пока у нее сила.
Черная «Волга» за пятнадцать минут доставила Лизавету и Баклажана до ее дома в центре города. Лизавета с вежливой сухостью поблагодарила шофера и отпустила машину. Баклажан поднялся вместе с хозяйкой на лифте на пятый этаж, занес коробку на кухню и хотел уходить, но Лизавета остановила его.
— Куда, Жанчик, я совсем не шутила, когда говорила Альбине, что забираю тебя насовсем. Я тебя приобрела. Я тебя купила, по безналичному расчету. Будь спок, ты мне встанешь недешево. Ты мой раб. Пойдем, я тебе покажу свои владения. У меня все можно. Можно ходить на голове, валяться на медвежьей шкуре, кричать петухом. Но чтобы был порядок. Вот такой покой у меня есть. Здесь я очень строгая женщина, и это мое самое главное положительное качество. Может быть, единственное. А в остальном ничьей инициативы и свободы я не сдерживаю. Хотите кукарекать, кукарекайте, мычать — мычите, хотите быть Адамом и Евой — на здоровье. Но чтобы при этом был порядок и моя любимая шкура лежала мездрой вниз, а не наоборот. Деньги я люблю, но считать их — это для женщины унизительно. Они всегда лежат вон в той большой шкатулке, на столе. Ты можешь брать сколько хочешь. Это не значит, что каждый, кто ко мне приходит, может брать сколько хочет.
Лизавета прилегла на тахту, подобрала под себя ноги и стала с интересом разглядывать Баклажана, который в грязных отечественных джинсах с вытянутыми коленями, в поношенном пиджачке с чужого плеча и в своих растоптанных туфлях среди богатства женщины с неограниченным доступом, среди ковров, изящных безделушек, картин и старинной дорогой мебели выглядел человеком из какой-то другой эпохи и явно не вписывался в интерьер. Но, кажется, именно это больше всего нравилось Лизавете.
— Тебя, конечно, можно было бы, и приодеть, но рыцаря в латах из тебя не сделаешь, как ни старайся. Оставайся таким, какой ты есть. Это даже экзотично. Как же мне тебя звать? Жан, Жанчик — это как-то фамильярно и упрощает.
В это время зазвонил телефон, стоящий у тахты на тумбочке. Лизавета слегка отпрянула от него.
— Возьми! Спроси, кто говорит и что надо. Баклажан, утопая в ковре, подошел к телефону.
— Баклажан слушает,- сказал он без выражения.
— Какая прелесть: «Баклажан — слушает». Это идеально. Лучше не придумаешь. «Я недавно по случаю приобрела раба. Его зовут
Баклажан». Это звучит.
— Кто звонил,- спросила Лизавета, сменив тон.
— Сказали, что ошиблись номером.
— Голос мужской?
-Да.
— Если будут звонить еще раз, меня нет дома, и сегодня не будет.- Она только потянулась.- Как хорошо иметь раба. Баклажан, ну почему ты такой молчаливый? Ты хоть как-то реагируй, Тебе нравится быть у меня рабом?
— Мне все равно.
— Ну, как это все равно. Быть рабом в вонючей лавке, из которой я тебя вызволила, или быть рабом у меня. Есть ведь разница?
— Мне все равно.
— Ничего, мой милый Баклажан, буду тебя перевоспитывать.
Ночью он проснулся от безотчетного страха. Сначала ему показалось, что он в больнице. Баклажан с привычной обреченностью потянул на себя свалившуюся простыню, но неожиданно коснулся рукой горячего и гладкого женского тела. Баклажан все вспомнил. Он осторожно повернулся на спину и, стараясь дышать как можно тише, стал смотреть, как светлеет в комнате потолок, как резче проступают предметы обстановки, мебель. Последовательно, шаг за шагом Баклажан восстанавливал свой путь сюда. Конечно, это было явью, но все же больше похоже на галлюцинацию, на болезненный бред.
Галлюцинация его даже больше устраивала, потому что, если это была настоящая жизнь, он просто не знал, что ему делать дальше и как себя вести. Глухое беспокойство поднималось в нем. Он искоса поглядел на женщину, спящую рядом. Она была удивительно прекрасна и хороша собой. Губы ее были чуть-чуть приоткрыты, дышала она глубоко и ровно, и, глядя на нее, можно было думать только об одном — жизнь удивительна, прекрасна, фантастична в своем совершенстве.
Баклажан это не раскладывал на понятия, но такое болезненное и нежное и очень сильное чувство рождалось в нем, что порой у него перехватывало дыхание. Беспокойство его усиливалось. Так бывает с людьми, решившимися на самоубийство,- красота приводит их в экстаз, но вместе с восторженным восприятием жизни они чувствуют грозную неодолимую тягу темной бездны. И, в конце концов, они срываются в нее.
Не отдавая себе отчета, Баклажан сполз с постели и устроился на медвежьей шкуре. Это перемещение несколько успокоило его, и он задремал. Проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо.
— Это что за такие рабы пошли, что никак их не добудишься. То, что ты спишь на шкуре у моих ног,- это прекрасно. Но то, что я просыпаюсь раньше тебя,— это уже и не по правилам. Я хоть и рабовладелица, но и трудящаяся женщина. Удивительное явление нашего строя, не правда ли?
Баклажан свернулся в клубок и мучительно вспоминал, где его одежда, и почти не слышал, что говорила ему Лизавета.
— Ты, кажется, стесняешься, мой друг. Удивительный факт.- Лизавета опустила руку и поерошила Баклажану волосы, как бы она, видимо, приласкала пуделя, если бы тот лежал сейчас на медвежьей шкуре. — Ну, иди, оденься, я не смотрю. Открой мне бутылку боржома и поставь кофе. Пожалуйста, покрепче. Сумеешь, надеюсь.
Баклажан проскользнул в коридор, торопливо оделся, чувствуя к Лизавете необъяснимую благодарность и нежность. Он нашел в холодильнике бутылку боржома, открыл ее и налил в высокий бокал; мелкие искрящиеся пузырьки осели на стенках бокала, в воде запрыгали тонкие струйки от выходящего газа. Баклажан радовался этому, как ребенок или как мать, которая может доставить удовольствие своему капризному, но любимому дитяти. Он, торопясь, суетливый от старания, отнес воду Лизавете, поставив ее на красивый поднос.
Отклячив зад, стоя босиком на медвежьей шкуре, вытянув перед собой руки с подносом, Баклажан благоговейно ждал, когда Лизавета поставит на него пустой бокал. Она пила медленно, с видимым наслаждением и исподлобья поглядывала на него.
— Какой способный раб,- сказала она, возвращая бокал.- Какой же трактор тебя переехал, что ты такой сделался? А знаешь, мне тебя нисколько не жалко,- сказала она после раздумья,- каждый занимает в жизни то место, которое может занять, что бы там ни говорили и ни вещали на разных волнах. Иди, свари кофе, мне пора собираться.
Баклажан никогда в жизни не варил кофе, он и пил его только в столовых и никак не мог понять, за что люди могут любить эту серую
сладкую бурду. Но сейчас его интеллект как будто испытывал свой звездный час, высшее вдохновение, как будто кто-то из космоса подсказывал, что ему надо делать.
Когда Баклажан на подносе принес Лизавете в серебряной жезве дымящийся душистый напиток, она лишь руками всплеснула.
— Ты не просто раб, Баклажан, ты — колдун.
Она пила кофе, а изнуренное сознание Баклажана все никак не могло согласиться, что это происходит наяву, а не является результатом болезненного искривления действительности.
Когда Лизавета выпила кофе, он с таким чувством и жаром прижал пустую жезвочку к груди, так осторожно и ласково поставил на поднос пустую чашку, что она забеспокоилась, не заходит ли игра слишком далеко. Ведь все в этой жизни, даже преданность раба и его благоговение перед владыкой, должно иметь какие-то пределы. А иначе получается сплошная безвкусица, когда уже не интересно.
— Эк тебя разбирает,- сухо сказала она.- Ты не переиграй. А то безмолвный раб — это, конечно, хорошо. Но время от времени и безмолвный что-нибудь говорит. Бормотал же ты ночью чего-то там. Бормотал? Отвечай?
— Бормотал,- тихо сказал Баклажан и вдруг почувствовал, что в шикарной квартире Лизаветы, как в их молочном магазине, стоит запах прокисшего молока.
— А сейчас что молчишь?
— Не знаю,- сказал Баклажан.- Здесь, кажется, кислым молоком воняет,- пробормотал он неожиданно для себя и с надеждой уставился на Лизавету, которая, взяв с туалетного столика зеркало, внимательно изучала свою утреннюю физиономию. Может быть, она обнаружила морщинку или прыщик, но слова Баклажана привели ее в крайнее раздражение.
— Что ты мелешь? А впрочем, может быть, от твоей одежды. Не исключено, ты, наверное, насквозь там провонял.
Через минуту она уже не находила себе места. Ей действительно казалось, что во всей квартире везде воняет прокисшим молоком. Прекрасное настроение, с которым она проснулась, улетучилось, и шутка с приобретением раба, которая ей вчера так нравилась, сегодня уже не казалась остроумной. Ее пугал и совершенно ей не нравился преданный взгляд Баклажана. Запах кислого молока еще можно вытерпеть, в конце концов можно выбросить всю его одежду. Но этот преданный взгляд. Не хватало ей только угрызений совести. Кажется, не он переигрывает, а она вчера переиграла, притащив к себе в квартиру этот человеческий неликвид. Да, пожалуй, Баклажан не антиквариат, а неликвид. Она вспомнила большого начальника, известного в городе человека, и все ее внимание переключилось на то, как она находчиво и больно отомстит ему за вчерашнюю выходку. На душе у нее стало спокойно и почти радостно. О Баклажане она совсем забыла. И даже вздрогнула от неожиданности, когда, оглядывая себя в прихожей в зеркале перед уходом, услышала его голос.
— А мне что делать? — спросил он с непонятной и даже смутившей ее своей непонятностью надеждой.
— Читай книгу о вкусной и здоровой пище,- на ходу бросила Ли-завета и щелкнула замком входной двери. На улице ее ждала служебная машина, принадлежащая одному из ее поклонников, как раз тому, кого она сегодня хотела использовать для мести большому начальнику и известному в городе человеку, и ей некогда было вдаваться в вопрос, чем же должен заниматься Баклажан в ее отсутствие. Конечно, она с большим удовольствием послала бы его к черту, но это ей казалось слишком банальным. А она слыла в своем кругу женщиной остроумной, очень ценила и тщательно культивировала в себе это качество.
Правда, когда она пешком спускалась по лестнице, у нее мелькнула мысль, что Баклажан ее может элементарно обчистить. А вынести у нее было что. Если он даже догадается накидать в сумку кое-каких мелких безделушек, то сумма получится более чем круглая. Но она тут же успокоила себя. Интуиция женщины с неограниченным доступом, а это значит женщины, познавшей и прошедшей в этой жизни все, подсказывает ей, что Баклажан не тронет даже пылинки в ее квартире. «Он стеснительный»,- сформулировала она и подумала, что, рассказывая дамам своего весьма узкого круга о том, как она покупала раба, она обязательно использует это определение. История могла получиться очень смешной и остроумной.
Настроение у нее поправилось окончательно, и первое, что она пообещала своему поклоннику, тучному и красивому полковнику милиции, это вечером показать ему, какую удивительную покупку она совершила.
— Для тебя всегда и в неограниченном количестве,- сказал тучный и галантный полковник, открывая перед ней заднюю дверь «Волги».
Они уехали, а Баклажан, восприняв пожелание Лизаветы, как и все, что ему говорили, буквально, с большим трудом отыскал в большой Лизаветиной библиотеке книгу о вкусной и здоровой пище и углубился в чтение. Он осторожно перелистывал толстые листы роскошной бумаги, вглядывался в иллюстрации и очень хотел понять, почему же Лизавета, волшебная женщина, заставила его читать эту книгу.
Вообще-то раньше он даже и представить не мог, что существует такое количество кушаний, блюд. Баклажан рано начал пить, лет с четырнадцати, а то и раньше. Еще до армии его и его лучшего друга Сашку Волкова называли в деревне алкоголиками. А после армии он уже регулярно начал впадать в запой, и еда, вообще всякая еда, стала для него иметь не главное, второстепенное значение. Главное было достать выпить.
И теперь он, может быть, в первый раз в жизни пожалел, что не знает не только вкуса, но и названия многих блюд. Ему бы очень хотелось приготовить до прихода Лизаветы что-нибудь очень вкусное, чтобы она вечером похвалила его. Он читал рецепт за рецептом, с огромным трудом сосредоточивая внимание и почти не понимая написанного.
Так он пролистал всю книгу, но понял, что ничем порадовать Лизавету не сможет.
Баклажан пошел на кухню, открыл холодильник. Он весь был забит различными колбасами, банками с иностранными надписями, красивыми бутылками. Были у Лизаветы в запасе и водки, и коньяки, неизвестные марки вин, но ни напитки, ни еда не тронули воображения Баклажана. Правда, когда он увидел грязную молочную бутылку, он подумал, что в магазине всегда можно было взять бутылку кефира, проткнуть крышку пальцем и выпить ее залпом до дна. Но это была мгновенная мысль, мелькнувшая у Баклажана лишь по той причине, что, работая в молочном магазине, он приобрел дурную привычку завтракать.
Баклажан открыл морозилку, она тоже была забита мясом. Он мог, конечно, потушить к Лизаветиному приходу баранины с картошкой, как, он помнил еще из детства, делала покойная матушка, но книга о вкусной и здоровой пище сбила его с толку. Ему захотелось приготовить для Лизаветы что-нибудь особенное, чего она никогда не пробовала.
Баклажан выбрал сумку похуже и решил сходить в магазин. Запасные ключи висели на вешалке. Баклажан взял их и спустился вниз. Конечно, это была почти бесполезная экспедиция, но влюбленным, говорят, везет так же часто, как и дуракам.
Обойдя пару ближайших гастрономов и разуверившись, что он сможет угостить чем-то необычным со вчерашнего вечера почитаемую им
женщину, Баклажан на улице набрел на очередь. Он пристроился и
спросил, что дают. Оказалось, именно то, что ему нужно. Он вспомнил
детство, когда они с сестренками ели наперегонки вареный рубец. И
было это удивительно вкусно. Баклажан терпеливо отстоял очередь, помог пожилой продавщице с красными от мороженых кусков рубца руками разбить несколько ящиков для дальнейшей торговли и выбрал себе лучший, наиболее чистый кусок килограмма на четыре. Это стоило совсем недорого, а деньги у него были.
Придя домой, он аккуратно разделил свою добычу, вымыл ее под краном и поставил варить в большой кастрюле. Он снимал с варева пену, пробовал его на вкус, каждый раз при этом испытывал радостное волнение, сердце его учащенно билось. Ему казалось, что в жизни его могут произойти перемены, обязательно к лучшему. В прихожей он дважды взглянул на себя в зеркало и один раз даже попытался улыбнуться себе. Зрелище было не из радостных, но он помнил ласковые женские руки, гладившие его прошлой ночью, сбивчивый глухой шепот и упорно продолжал улыбаться своему отражению.
* * *
Вечером Лизавета позвонила милицейскому полковнику и спросила его, не передумал ли он ее сегодня навестить. Тот уточнил, когда она освободится, и пообещал за ней заехать. Одновременно Лизавета позвонила большому начальнику, известному в городе человеку, и назвала ему час, в который она хотела бы к нему заехать, если он, конечно, будет не против. Большой начальник, известный в городе человек, обрадовался, сказал, что ждет ее в любое время и что он очень огорчен тем, что вчера произошло. Это так на него подействовало, что он ночь не спал. Из всего, им сказанного, правдой было только последнее. Вчера, расставшись с Лизаветой, он позвонил молодой замужней женщине, за которой полушутя, полусерьезно несколько лет ухаживал. Неожиданно она легко согласилась поехать с ним на дачу. Он отпустил шофера, как всегда делал в этих случаях, сам сел за руль. Женщина ждала его в условленном месте. А утром он отвез ее на работу. Он был уже староват для таких подвигов, а женщина неожиданно закатила истерику, сказав, что это с ней случилось в первый раз и что теперь он должен на ней жениться. Он, чтобы ее успокоить, пообещал и даже сказал, что с женой его связывают лишь формальные отношения. На самом же деле ничего подобного ему в голову не приходило, и он сразу решил, что молодая, красивая замужняя женщина больше ни при каких обстоятельствах не попадет в поле его зрения. Но сам факт, что он вынужден был хитрить, кого-то обманывать, дурно действовал на его настроение. Хотя внешне он выглядел безукоризненно, был, как всегда, доброжелателен и улыбчив. Только дважды, сверх обычной нормы, просил у секретарши заварить чай покрепче.
— Не жалеете вы себя,- понимающе говорила секретарша.
— Да, напряженный сегодня день,- говорил он, слегка хмурясь, но при этом, не забывая поблагодарить секретаршу с подчеркнутой сердечностью.
Лизавета позвонила ему во время третьего чаепития. Он уже собирался вызвать машину, чтобы она увезла его на дачу, откуда он так же, как вчера, позвонит жене, чтобы та не беспокоилась.
В общем, ни встречи с Лизаветой, ни даже телефонного разговора он совсем не жаждал. Однако, когда она позвонила, он взял себя в руки и говорил с ней ласково и взволнованно, как говорит мужчина, же-лающий не потерять женщину, а непременно ее удержать. Тем более что это была не просто хорошенькая женщина, каких он без особого труда мог увлекать, это была женщина с неограниченным доступом, а с этим необходимо было считаться даже ему, большому начальнику и известному в городе человеку. Конечно, ехать сегодня к ней или везти ее к себе на дачу он был просто не в состоянии. «Господи, почему на меня женщины не могут сердиться подолгу, хотя бы дня по три», — думал он, без настроения допивая остывающий чай, Лицо его было усталым и в меру грустным, как раз таким, какое ему было нужно для встречи с Лизаветой.
Она влетела к нему так шумно и победительно, что он обрадовался — пришла ссориться. Но, оказывается, не ссориться, а мстить. Замечательно!
— Я отниму у тебя совсем немного времени,- чеканила она слова, ловя его взгляд своими холодными хищными глазами.- Сейчас подойди к окну, я помашу тебе снизу ручкой. Договорились?
— Договорились,- устало сказал он и в самом деле подошел к окну, облокотился на подоконник и стал ждать. Лизавета вышла из подъезда, цепко оглядела окна этажей и, увидав его, энергично помахала ему, он тоже сделал ей ленивый знак, но не отошел, справедливо заключив, что не за этим же поднималась она к нему на девятый этаж. Действительно, Лизавета прошла несколько шагов, и из почти новой «Волги» тяжело вылез грузный милицейский полковник и открыл перед Лизаветой заднюю дверцу.
— И это все? — сказал большой начальник, известный в городе человек,- Не густо, не густо.- Он набрал номер гаража и вызвал служебную машину.
* * *
— Что-то я тебе утром обещала? — возбужденно щебетала Лизавета.
— Да, обещала. Говорила, что покажешь какую-то покупку,- басил полковник.- С рук, наверное, достала? — продолжал он.- Ты будь осторожна, ворованным торгуют. А с ним беды не оберешься.
— А ты-то на что? — похохатывала Лизавета. — Неужели не выручишь?
— Ну все же. Будь осторожна.
— Ладно, буду осторожной, правильно, товарищ старшина? — обращалась она к шоферу. Тот сделал вид, что не услышал, посигналил коротко идущему впереди частнику и пошел на обгон. Его широкая распирающая форменный китель спина, крутые шейные складки и толстый затылок были так подчеркнуто безразличны ко всему, что говорит и делает его шеф, сидящий сзади с дамой, что Лизавета снова громко рассмеялась.
— Ну, служака, ну, молодец. Ничего не вижу, ничего не слышу…
— Точно. Проверенный кадр. Могила. Я за ним как за каменной стеной.
Затылок шофера порозовел от удовольствия. «Волга» сделала два плавных поворота и остановилась у подъезда Лизаветы.
— Смотри, как точно маршрут усвоил,- сказала Лизавета, выходя.
— Проверенный кадр,- снова густо пробасил полковник.- Нам машина нужна или как?
— Отпускай.
Полковник одернул сморщившийся за время езды китель, что-то сказал шоферу и, уверенно попирая милицейскими туфлями асфальтовую дорожку, строго поглядывая на сидящих на скамейке старушек, вошел в подъезд.
— Что случилось? — воскликнула Лизавета, войдя в квартиру.- Это уже не кислым молоком. А? Полковник? Не чуешь?
— Есть что-то такое. Канализационное.
— Мягко сказано. Наверное, Баклажан здесь что-то затеял. Баклажан,- негромко позвала Лизавета.
Баклажан появился из темного угла с выражением готовности и преданного обожания, которое так не понравилось Лизавете утром.
— Что за вонищу ты здесь развел? — строго спросила Лизавета.
— Варю,- радостно сказал Баклажан.- Рубец варю.
— Немедленно прекрати и вынеси эту гадость. Уловил?
— Хорошо,- сказал Баклажан, и на его лице отразилось смятение, он никак не мог предположить, что не угодит. Целый день он пребывал в радости и почему-то был уверен, что Лизавета придет одна. Нет, он не думал ее упрекать. Но вдруг он ощутил, что все, что с ним происходило
вчера вечером и сегодня, все это было сном, белой горячкой, бредом, а сейчас он вновь стал воспринимать настоящую жизнь. Настоящая жизнь причиняла ему всегда только боль.
Он прошел на кухню, выключил газ, ничем не прихватив, взял кипящую кастрюлю и понес ее, держа перед собой на вытянутых руках. Вышедшая навстречу Лизавета опасливо отпрянула.
— Того и гляди ошпаришь. Я тебе вот что хотела сказать: ко мне пришел гость, мой хороший друг, ты походи там подольше. Уловил?
— Хорошо,- сказал Баклажан, и руки его стали чувствовать горячие ручки кастрюли. Но он аккуратно ступал, спустился по лестнице на первый этаж, дошел до пищевого контейнера, вылил в него варево и осторожно поставил рядом пустую кастрюлю. Потом он взял с клумбы сырую от недавнего полива землю, охладил ею обожженные ладони и пошел по асфальтовой дорожке, ведущей к большой улице. Никто не обратил на него внимания. Он бездумно ходил по улицам довольно долго, и, наверное, скажи ему Лизавета более определенно, он вряд ли вернулся бы, но она ничего не сказала, чтобы он не возвращался, и он вернулся. Было уже совсем темно, старушки не сидели на скамейках. Баклажан по лестнице поднялся на пятый этаж, тихо открыл запасным ключом квартиру.
Вошел в темный коридор, зашарил по стене, отыскивая выключатель.
— Кто там? — встревожено спросила Лизавета. Баклажан нажал кнопку выключателя и, не снимая туфель, шагнул в комнату.
— Это я,- сказал он тихо и затравленно. На кровати, на которой он сегодня рано утром проснулся,- лежал полковник милиции, и грудь его, покрытая густым темным волосом, еще продолжала вздыматься.
— Твоя покупка пришла,- сказал он одышливо.- Товар, конечно,
не ахти, но все равно поздравляю. Ты ему скажи что-нибудь. Почему он
стоит, глазеет? Эй, мужик. Иди отсюда, а то я тебя, не ровен час, могу
и пристрелить. Как собаку,- добавил он после короткой паузы для убедительности.
Баклажан продолжал стоять.
— Ну, ты же можешь его вывести,- все больше раздражался полковник милиции.
— Я тебе разрешаю.- Лизавета потянулась под простыней, обозначив весь рельеф своего не юного, но прекрасного тела.- Вперед, милиция!
Полковник милиции приподнялся на локтях и, стараясь вложить всю силу власти в свой бас, рявкнул:
— Немедленно освободи квартиру, бомж. Иначе я за себя не ручаюсь.
— Не бомж, а Баклажан,- хихикнула Лизавета.- Склероз у тебя, товарищ полковник, жирного много ешь. Да ты накинь китель с погонами, и вперед! Подумаешь, что без трусов, с погонами ты уже власть.- Полковник не вставал, он так же, как и Баклажан утром, стеснялся своего вида.
Баклажан нащупал в кармане запасные ключи, повесил их на крюк вешалки и вышел на площадку.
Он в третий раз шел по асфальтированной дорожке, которая вела к большой улице. На большой улице он остановил такси и попросил отвезти его на вокзал.
На вокзале Баклажан отдал таксисту все деньги, какие у него были.
-Что-то многовато,- сказал таксист осторожно.
— Пускай,- сказал Баклажан и, шаркая растоптанными туфлями, пошел в центральное здание вокзала. В вокзале он зачем-то прочитал расписание поездов, идущих на восток, и тут же забыл его.
— Ну ладно,- сказал он сам себе под нос. Не торопясь, вышел на перрон и, также не торопясь, двинулся вдоль первого пути. Он миновал станционные здания, светофор и пошел вдоль насыпи по кромке откоса. Сияя огнями, прогромыхали два скорых поезда, прошел пассажирский, потом почтово-багажный, а Баклажан все так же шел вдоль насыпи, иногда оглядываясь. В очередной раз поездные фонари вытянули вдоль насыпи темную Баклажанову тень, металлически звонко прозвучал над головой сигнал тепловоза. Баклажан, низко пригнувшись, стал подниматься по насыпи. У самых рельсов, положив правую руку на шпалу, он лег и сделался почти незаметным. Во всяком случае, машинист не заметил его, и вагоны со страшным грохотом стали пролетать над его головой. Баклажан подтянул к животу ноги, положил вторую руку на шпалу, нащупав ногами упор, со всей силой оттолкнулся и ринулся в грохочущую бездну.
В глазах резко крутнулся раскаленный оранжевый обруч, и стало темно.
Ни машинист, ни поезд, конечно, не заметили возникшего препятствия, но все же машинист, отъехав от злополучного места несколько километров, почувствовал необъяснимую тревогу. Начал томиться предчувствием. Он сообщил о своем опасении по радио на дистанцию.
Менее чем через час была послана дрезина с путейцами. Они и увидели под откосом что-то подозрительное, похожее на кучу тряпья.
— Готовый,- сказал пожилой путеец и стал тормозить дрезину.
— Да это старая телогрейка,- с надеждой возразил другой, помоложе.
Он сделал несколько шагов по полотну, шаря перед собой ручным фонарем, но вдруг резко остановился и, переломившись в пояснице, начал мучительно и бурно блевать. Подошел тот, который был постарше. Между рельсов лежало то, что было руками Баклажана. Это были темные, мокрые от крови, прожульканные колесами, перемешанные со старой смазкой и дорожным прахом обрубки.
Фонарь дрожал в руках молодого путейца, и, казалось, обрубки
шевелились. Путеец вернулся, взял старый мешок и прикрыл обрубки.
Молодой путеец пришел в себя и стоял, облокотившись на край дрезины.
— А ну посвети мне,- сказал старый путеец и стал осторожно спускаться с насыпи.
— Гляди, где камень у бедняги из под ног выскочил. Парень пошевелил светом фонаря и ничего не сказал.
— Милицию надо вызывать,- пожилой путеец осторожно приблизился к тому, что совсем недавно было живым человеком.
— Да он живой,- воскликнул путеец и отпрянул.
* * *
Спустя несколько месяцев после ухода Баклажана из магазина кассирша Ольга увидела его сидящим в подземном переходе перед кепкой, в которой поблескивало несколько монет.
Преодолевая страх и жалость, охватившие ее, она подошла к нему и тихо спросила:
— Баклажан, это ты?
Он поднял на нее красные, слезящиеся глаза, неопределенно покачал головой и усмехнулся.
С тех пор, почти каждый вечер, Ольга делает с работы крюк, чтобы переложить мелочь, которой за день собирается довольно много, в карман его куртки. Кто потом достает это собранное Баклажаном подаяние, она не знает, но когда она наклоняется к Баклажану близко, то чувствует запах перегара и плохо переваренной пищи. Это ее успокаивает.