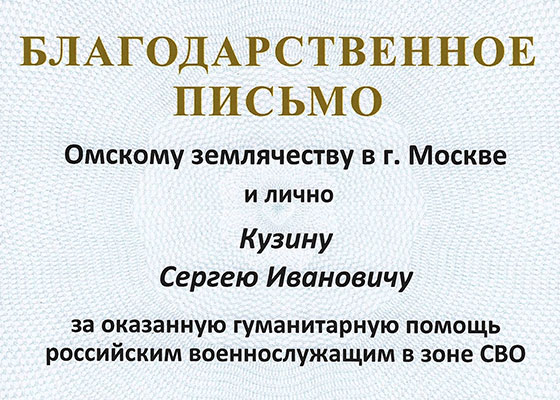«Скатертью дорога» — новый рассказ Валерия Мурзакова
«Скатертью дорога» — новый рассказ Валерия Мурзакова, который можно прочитать в нашей библиотеке
 Валерий Николаевич Мурзаков – известный на омской земле писатель и общественный деятель. Он почти два десятилетия возглавлял Омскую писательскую организацию, был инициатором проведения известных на всю страну литературных праздников «Омская зима». Первым крупным произведением Валерия Мурзакова стала повесть «Семья». Затем он печатает повести «Мы уже ходим, мама!», «Паводок», пьесу «Где живет домовой», которая с успехом шла на сцене десятка театров. Последняя повесть «Полина» — это яркое подтверждение неиссякаемой силы его таланта и надежды на новые творческие удачи.
Валерий Николаевич Мурзаков – известный на омской земле писатель и общественный деятель. Он почти два десятилетия возглавлял Омскую писательскую организацию, был инициатором проведения известных на всю страну литературных праздников «Омская зима». Первым крупным произведением Валерия Мурзакова стала повесть «Семья». Затем он печатает повести «Мы уже ходим, мама!», «Паводок», пьесу «Где живет домовой», которая с успехом шла на сцене десятка театров. Последняя повесть «Полина» — это яркое подтверждение неиссякаемой силы его таланта и надежды на новые творческие удачи.
СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА. Рассказ
Василий Трофимов сидел на каменной ступеньке лестницы перед входом в здание Центрального рынка и ждал клиентов. Рядом стояла его грузовая тележка, смонтированная из детской коляски, и детской же ванночки, оклеенной с внешней стороны для красоты старой кухонной клеёнкой с цветами. На дне ванночки лежал аккуратно свёрнутый восьмёркой шпагат, на случай габаритного груза.
День был холодный, пасмурной и невезучий. К Василию подходили, в основном, древние старушки, всю поклажу которых составлял полиэтиленовый пакет с картошкой и какими-нибудь овощами, вроде морковки и свёклы. Из пакета изредка торчала пара обрезанных говяжьих костей на суп или завёрнутая в старую газету разная увядшая зелень, петрушка, укроп, листья хрена и всякая другая ерунда, название которой Василий не помнил. Всё это добро продавцы обычно отдавали бедным бесплатно. Старушки останавливались в нескольких шагах от тележки, некоторое время изучали незнакомый им транспорт, прикидывая, можно ли доверить ему своё богатство. Наконец, решившись, очень вежливо и осторожно спрашивали Василия, не возьмётся ли он подвезти их покупки и сколько это будет стоить?
Для него груз был, конечно, ничтожный и можно было бы подвезти из уважения к возрасту бабушек, но адрес они называли такой дальний, что туда не то что пешком, на трамвае надо было пилить не меньше часа. А совершать такой подвиг за скупое пенсионное вознаграждение Василий не собирался. Он хоть и был в юности пионером и комсомольцем, по-настоящему гуманистом стать не успел и вежливо отказывался, ссылаясь на то, что уже заказан. Старушки извинялись и со вздохом отходили в сторону. Василий слегка менял положение тела, так, чтобы не сдвинуться с нагретого места, и продолжал терпеливо ждать достойных клиентов.
От нечего делать в голову лезли всякие мысли, беспорядочные и необязательные. Двадцать пять лет он работал автослесарем в заводском гараже и жил в одной из хрущевок, построенных хозспособом рядом с заводом. На одной площадке с ним жил бригадир, который тоже был автослесарем, но с незаконченным средне-техническим образованием. За пьянку выгнали с четвёртого курса автодорожного техникума.
Он здорово умел втюхивать мастеру при составлении нарядов всю сделанную и не сделанную работу. Иногда обещал с получки бутылку, а чаще пользовался авторитетом своего непрерывного рабочего стажа.
Василий немного завидовал ему, потому что сам не обладал таким нужным в жизни талантом. Видимо, по этой причине Василию не только никогда не предлагали места даже самого маленького начальника, но и в цехком не выбирали ни разу. В молодости он переживал по этому поводу, а потом привык.
Мастерами в гараже работали, как правило, молодые ребята и не подолгу. Ровно столько, сколько проходило от получения диплома об окончании техникума до повестки в военкомат. Это продолжалось обычно три-четыре месяца, иногда полгода, но по году до армии молодые специалисты никогда не задерживались.
В гараже была своя традиция, неизвестно как и когда возникшая, но почитаемая не меньше, чем октябрьские праздники, и часто с ними совпадавшая. Откосить от неё было нельзя, не потеряв лица в глазах рабочего коллектива и не оставив по себе недоброй памяти.
Такие случаи, если и бывали, то очень давно, в седые времена, как любили острить работяги, ещё до исторического материализма. По крайней мере, Василий, который пришёл в гараж сразу после ремеслухи и считался четвёртым среди ветеранов, такого случая не припоминал.
Обычно вновь прибывшего молодого мастера начинали исподволь подготавливать к этому дню, как индейца к инаугурации.
Ему ненавязчиво внушали, что уходить в армию без торжественного прощания, без советов и пожеланий стариков не только стрёмно, как теперь говорят молодые, но, вообще, по-скобарски… Не по-пацански, одним словом.
Без этого, мол, за всю службу ни одной лычки на погоны не упадёт, да и сержанта к дембелю не получишь. Только наряды, гальюны чистить будешь получать вне очереди…
А, по-хорошему, чтобы этого не случилось, не много и надо. Чувствуешь, что вот-вот повестку должны принести, с получки купи четыре пузыря, чтобы на весь коллектив и чтобы не бегать… Заначь их где-нибудь в тёмном углу и забудь на время…
За проводы всегда отвечал бригадир. И он, если и дальше хотел остаться бригадиром, о проводах призывников никогда не забывал. Ко времени, по-тихому, в складчину закупал немудрёную выпивку-закуску и накрывал на слесарном верстаке поляну.
И столько за призывника бывало поднято тостов, столько в его адрес сказано тёплых слов, столько пожеланий от всей души сделано, что кому-то на всю жизнь до поминок могло хватить. Проводы всегда проходили очень хорошо, но почему-то всегда так случалось, что, когда у кого-нибудь из стариков на глаза уже наворачивалась горючая слеза, и хотелось ему поднять за призывника самый прочувствованный, самый проникновенный тост, то, как назло, в бутылках оказывалось пусто и вся присутствующая смена и приглашённый для этого случая начальник участка смущённо опускали глаза…
И тогда призывник, душа которого была размягчена коллективным сочувствием, а глаза повлажневшими от благодарных слез, быстрыми шагом шёл в тёмный угол, в котором была свалена обтирочная ветошь, быстро и уверенно отрывал спрятанный клад и водружал его на общий стол.
От дружного коллективного вздоха начинали покачиваться и негромко позванивать укреплённые на металлических балках лебёдки. В цехе становилось тихо и сосредоточенно. Потом бригадир разливал всем поровну уже без тостов.
Серьёзно, без балагурства, встретившись глазами с молодым мастером, вчера ещё начальником, а сегодня призывником, мужики одобрительно похлопывали его по плечу и дружески подмигивали: держись, мол, парень, не ты первый, не ты последний.
Но так было до Афгана и до Чечни. . . И не потому, что из этих горячих точек никто вообще не возвращался, а потому что молодых специалистов к ним в гараж с того времени уже не распределяли, военкоматы на всех накладывали своё вето и набиравший силу рынок безжалостно разворовывал кадры. Несколько лет мастером у них был глухой пенсионер Воротило, который не только путём не умел составить нарядов, но и те, которые наспех от балды сочинял начальник участка, не мог подписать, не порвав бумагу.
— Вы что там их, копытом что ли подписываете? — Возмущались в бухгалтерии и задерживали получку. Этим фактом первым начинал возмущаться сам глухой Воротило: что, мол, за порядки, как при царском прижиме. Над ним подсмеивались. Кто-то дал ему прозвище: «Крутой мэн».
Но прошло совсем немного времени, и в гараже перестали подшучивать над стариком, а вскоре слесарям отменили аванс в связи с сокращением в бухгалтерии.
А потом и день получки перестал быть днём приятного ожидания, когда выстояв очередь в кассу, можно было пачечку ассигнаций разложить на три кучки: одну на раздачу долгов, другую на пузырь «одна на троих» с корешами, третью «для дома, для семьи» и, после традиционной «одна на троих», в приподнятом настроении идти домой.
Зарплату стали давать редко и неожиданно, когда она с учётом долгов уже не приносила радости и казалась возмутительно маленькой. А потом и её давать перестали. Волей-неволей все бросились в бизнес. Василий таких способностей за собой не чувствовал и, помня поговорку: «сила солому ломит», сначала хотел пойти грузчиком.
Сила кое-какая у него ещё была, он помнил, как в первые годы после женитьбы ходил по выходным на товарную станцию разгружать вагоны с цементом. Работа была тяжёлая, грязная, но денежная. За ночь по семьдесят, по восемьдесят советских целковых зашибали. А иногда и до сотни догоняли. Такая была жизнь, раза три на халтуру сходишь, баба своих добавит и, глядишь, на толкучке зимние сапоги себе справит. Может, и не на цигейке, но тёплые, вполне приличные сапоги…
Можно было бы и теперь, но кто-то Василию сказал, что в грузчики нынче берут только с высшим образованием. Демократия, бля… Одно дурачьё по-порядку. Хотя как сказать, — страну растащить и рассовать по своим карманам ума хватило.
У Василия была жена Ольга, баба, которую поискать. Не то чтобы жили совсем уж душа в душу, как в сказке, но она умела его понять, когда надо и уступить. Как без этого в семье? Она редко ругалась, даже если он приходил хорошо навеселе, а если с небольшим запахом, вообще не замечала. Правда, для порядка и вроде бы смехом, иногда ворчала, что мог бы и домой принести бутылку, вместе бы и выпили.
— Ты скажи, я сбегаю. Одна нога здесь… — с готовностью говорил Василий.
— Лучше, чтобы обе здесь, — в тон ему отвечала Ольга. — Садись ужинать. Сколько тебя ждать? Остыло всё.
Василий шёл в ванную, мыл руки. Смотрел в зеркало на себя, здорового, ещё не старого, в меру хмельного мужика, которого уважает жена, и был собой и жизнью, в общем, доволен. Хотя беспокоило его, что частенько Ольга ходила по дому, повязанная вокруг поясницы пуховым платком, и не любила, когда муж её спрашивает о здоровье. Отвечала всегда раздражённо:
— А ты видел хоть одну бабу, чтобы совсем здоровая и, вообще, чтобы без недомогания?
— Я тебе что, фершал что ли, чтобы про всех баб знать? — обижался Василий.
— Вот именно, что не фершал, деревня, — вымученно смеялась жена. — Почки. Ты же знаешь…
Про почки Василий действительно давно знал, но, боясь Ольгу расстроить, переживал про себя. Терпел, но иногда не выдерживал, когда видел, что жене становится совсем худо.
— Что ты мне всё почки, почки! Может, что другое, и серьёзно надо лечиться? В платную надо или там на курорт что ли съездить…
Ольга обычно отмалчивалась. Но иногда срывалась.
— А почки, это что, мало? — говорила она сдавленным голосом, стараясь не смотреть на мужа.
* * *
Первые годы у них не было детей, и они даже были рады этому, оба жили в то время в разных общежитиях, и не только заводить детей, просто встречаться было сложно. Василий предложил Ольге снять угол, но она отказалась.
— А как мы будем объяснять хозяевам, что мы муж и жена, а фамилии у нас разные? Нет, я так не могу.
— Чем тебе твоя фамилия не нравится? Первых — как это звучит, чемпионская фамилия, а Трофимовы, они после Ивановых на втором месте. Куда не плюнь, если не в Иванова, то в Трофимова обязательно попадёшь, — подначивал Василий.
— А ты не крути, не виляй хвостом. Не хочешь жениться, скатертью дорога. Ты чем болтать, лучше бы заявление в загс написал.
Расписались по-тихому, без свадьбы. Но и после этого продолжали жить в разных общежитиях. И всегда у Ольги были свои женские причины, то на чужой кровати она не хотела спать, то не могла себе представить, как в чужих стенах будет жить, не имея даже своей тумбочки, своего тазика. Однажды Василий неосторожно пошутил, сказав Ольге, что, проживая в разных общежитиях, они как-то обходятся без этих вещей. Василий никак не мог ожидать такой реакции. Глаза Ольги вдруг стали расширяться и медленно наполняться слезами, пока, наконец, две огромные капли не скатились по её щёкам. Василий хотел Ольгу приобнять, но она отстранила его руку и тихо сказала, задыхаясь:
— Если ты не понимаешь, подавай на развод! И вообще. . .
Василий догадывался, что значит это «вообще», и, чувствуя свою вину, начал активно искать приработок. Вскоре могли понадобиться не только тумбочки и тазики, но и многое другое. К тому моменту, когда Ольга решила ему сказать, что будет матерью, Василий был подготовлен. Он нашёл к основной работе ещё место ночного сторожа в детской больнице на полставки и договорился с комендантом насчёт угла на складе, в котором хранилось больничное бельё. Когда Василий засомневался насчёт белья, комендант его успокоил:
— О санитарии можешь не беспокоиться, всё стерильно. Я вам могу и простыней старых дать, их знаешь сколько понадобится. Они все после прожарки… Один, правда, здесь недостаток, окон нет. Так это, может, и хорошо, пусть твоя баба на воздухе больше с ребёнком гуляет.
* * * Василий был парнем деревенским и в город попал после ремесленного училища. Он жил с родителями и двумя старшими сёстрами в бедном колхозе в северном районе области. После окончания семилетки родители хотели было послать его в соседнее большое село, где была десятилетка и можно было жить на квартире у дальних родственников, но этот вариант сёстры решительно отвергли.
— На какую квартиру? — кричали они хором, перебивая друга.- В батраки хотите отдать парнишку? Быкам хвосты крутить? Мы с сестрёнкой это уже проходили. Ни тебе десятилетки, ни специальности. Вечные телятницы.
— Тогда на курсы трактористов, что ли, — неуверенно предлагал отец.
— Ага, а потом до армии прицепщиком, а в уборку помощником комбайнёра: подай, принеси. Пусть в город едет, в ремесленное училище. И специальность получит и паспорт. В общежитии будет жить, на заводе работать. Потом и мы к нему переберёмся. . .
В общем, всё так и получилось, как предлагали сёстры. Правда, сами они живут не в областном городе, как Василий, а в райцентре. Матери с отцом давно уже нет в живых, да и деревни нет. Как-то Василий ездил в командировку и оказался поблизости от родных мест, заехал в деревню, хотел посмотреть на свой дом и не нашёл его. На улице, где они жили, вместо домов можно было различить только обвалившиеся ямы бывших подполов, густо заросших борщевиком. Грустное было зрелище…
Василий, рассказывая тогда об этом Ольге, так расчувствовался, что она пошутила:
— Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, — и вроде как ни к чему добавила, что у неё-то, мол, почки, ну ещё кое-что, по мелочи, стоит ли из-за этого горевать. Люди без рук, без ног живут, а по телевизору показывали, что почки от живых людей пересаживают. И если что…
— Как это? Наверняка, брешут. Тебе врут, а ты веришь.
— Тебе всё врут, ты по телевизору только футбол смотришь. Вам, мужикам, только выпить да закусить, да потрепаться, — сказала Ольга и внимательно посмотрела на мужа, стараясь отгадать, знает ли он, что уже месяц, как она получила вторую группу инвалидности и не ходит в заводскую столовую, где работала поваром, хотя до пенсии по возрасту ей ещё, как до луны пешком. Целых пять лет…
А Василий узнал об этом от соседки по площадке уже на следующий день, но виду не подал, хотя хорошо был наслышан, что у нас инвалидность сразу за просто так никто не даст, по комиссиям людей будут гонять до постельного режима, чтобы быстрее закруглялись, зря с государства деньги не тянули. Но жене он ничего не сказал, и они с Ольгой, как и прежде, продолжали с утра вместе выходить на работу. Сначала, как обычно, шли рядышком, бок об бок, а потом она три остановки на автобусе, а он пешком.
Им было хоть и в одну сторону, но ему одну остановку, а ей целых три, так что ездить вместе не было никакого смысла, чего деньги зря выбрасывать. Василий, посадив жену в автобус, шёл обычно быстрым шагом, стараясь перегнать впереди идущих, и к проходной приходил бодрым и в хорошем настроении.
В гараже над этой его привычкой часто подшучивали, куда, мол, друг бежишь-торопишься: если на тот свет, то там кабаков нет.
По-молодости его эта подначка почему-то обижала, а потом он махнул рукой, перестал обращать внимание. Да и подшучивать стали реже. Возможно, потому что «его быстрый шаг» стал не таким уж и быстрым. Подумав об этом, Василий почувствовал, что у него начало поламывать ноги. Его всегда удивляло, что ноги начинают болеть не на ходу, не тогда, когда он стоит за работой, например, за верстаком Василий мог не присесть ни разу за всю смену и всё было нормально, но стоило ему подумать о ногах, начиналась боль и ломота, особенно в коленях.
Однажды Василий решил этим своим наблюдением поделиться со стариком Воротило, считая его в этом отношении человеком сведущим. Воротило в это время как раз нарезал куски арматуры и, загасив резак, наблюдал, как остывают, меняя цвет заготовки. Василий подошёл и встал рядом, ему тоже всегда нравилось смотреть на меняющийся цвет остывающего металла, что-то в этом было завораживающее. Почему-то именно в этот момент он решил спросить у Воротило про ноги. Старик некоторое время удивлённо на него смотрел, потом наклонился к самому уху и рявкнул:
— О бабах надо думать, дурак! И всё пройдёт. — Старик рассмеялся похожим на кряхтение смехом.
Сейчас, вспомнив об этом случае, Василий решил, что Воротило, хоть и посмеялся над ним, но, похоже, был прав. Жизнь на его глазах поворачивалась так, что о бабах совсем перестали думать. От этого все беды. Он это чувствовал. Василий снова подумал об Ольге, о том, какая добрая ему досталась жена, как жалеет его, заботится о нём. Болеет и инвалидность получила, а ходит как будто на работу, а ему не говорит, боится расстроить. Болезни своей стесняется, ещё где-нибудь взялась подрабатывать, дурочка. Василий снова вспомнил рассказ жены о пересадке больным почек от родственников и мысленно спросил себя, смог ли бы он в случае чего… Ему стало стыдно. Он почувствовал, что внутренне не готов к этому.
«А где она подрабатывает, куда ходит?» — вдруг вместо сочувствия и жалости он испытал к жене странную неожиданную ревность, хотя за всю их долгую супружескую жизнь Василий Ольгу не ревновал ни разу. Конечно, он много раз слышал эти присказки, что, мол, если не ревнует, значит, не любит.
Василий к этой народной мудрости относился как к плохому юмору и в компании сам любил придуриваться, говорил, что, мол, если мужик только ревнует, бабе есть смысл задуматься, потому что бог троицу любит: «пьёт, бьёт, ревнует», — и если всё в полном комплекте, значит, порядок, если не в полном, догадайся, мол, сама.
Мужской народ к его шуткам относился равнодушно, а женщины делали вид, что не слышали, и демонстративно отворачивались: «он, значит, не такой? . . да, мужик ты? или вообще?». Василия это забавляло, и он изрекал как бы невпопад и не очень понятно: «а мы по старинке, обойдёмся». В компании шутка Василия не имела успеха, но ему она очень нравилась и, вспоминая реакцию женской половины, он вдруг начинал хохотать, как от щекотки. Ольга этого не одобряла, и, бывало, вполголоса ворчала:
— Кончай дурака из себя корчить, гляди, за умного сойдёшь.
* * *
Сейчас, почувствовав неожиданную тревогу, Василий вдруг понял, что возникла она не от ревности, а скорее от плохого предчувствия.
Ему показалось, что их непутёвый великовозрастный сын Игорь, по домашнему Игруня, как ласково называла его мать, отбывавший четвёртый срок в колонии, на этот раз по очень серьёзной статье, за коллективный грабёж, каким-то образом оказался на свободе. И вряд ли досрочно или по амнистии. «Хотя друганы могли помочь, — думал Василий. — В наше время всё бывает».
В последнем письме, которое они получили из лагеря месяца четыре назад, Игруня писал, что работы на киче совсем нет, зачёт идёт день в день, и до конца срока, как до луны пешком. Сообщал ещё, что жрачка терпимая, и если бы родители сумели ему наладить дачку с чайком и куревом, а лучше бы передали денег, то было бы совсем нормально.
Для родителей Игруня был общим горем, но Ольга, как мать и как женщина, прощала сыну всё и обвиняла только себя и мужа. Недоласкали, недоглядели… Но в конце концов, как это часто бывает, виноват во всём оказался отец. Вначале Василий пытался оправдываться, но кто женщину переубедит.
Он пытался, как мог, Ольгу успокаивать, да и сам в глубине души начинал верить, что их парень, а теперь уже взрослый мужик, перестанет, как молодой, пальцы гнуть, войдёт в колею. На инженера, как мечтал когда-то Василий, Игруне учиться уже поздно, да и не станет он за одной партой с пацанами сидеть… Слесарем или токарем, куда-нибудь на хорошее место, например, в почтовый ящик, с подмоченной биографией тоже вряд ли возьмут, а на стройку с руками оторвут. Там, может, и на каменщика выучится. В конце концов, перебесится. Каждый раз, когда Игруня освобождался, он пытался с ним поговорить по-отцовски. Но разговора не получалось. Пока был помоложе, Игруня кривлялся, нёс блатную околесицу, а постарше стал отцу со смешком во всем поддакивать.
— Ты, конечно, прав отец. Так оно и есть. Надо попробовать…
А кончалась их беседа всегда одинаково.
— Ты, батя, серьёзную тему поднял. Тут без полбанки не разберёшься, только она родная подскажет, как нам справиться с экономическим кризисом. — Игруня начинал медленно одеваться, поглядывая поочерёдно то на отца, то на мать.
— Дай ты ему. Не отстанет ведь, — безнадёжно говорил Василий жене. — Не отстанет…
— Почему же? Отстану, — вор последнего не возьмёт. Вор сам отдаст последнее — Игруня доставал из кармана мятую сотню и подчёркнуто осторожно разглаживал её на краю кухонного стола. — Вот всё, что пока имею. Но не расстраивайтесь, сынок ещё порадует вас. Вы думаете, сын ваш рецидивист, неисправимый вор? Возможно, но по совместительству. В душе я поэт, и талант этот во мне от вас. Вот приду однажды и скажу, прямо так и скажу: «Дорогие родители, денег не хотите ли? Мамке охапку, в шапку, а папке беремя, на время». Чао, родители! – Игруня, хохоча и дурачась, на цыпочках выходил в коридор, неслышно притворив за собой дверь.
— Куда ты? — вскрикивала мать и со слезами падала на диван.
Тогда Василию хотелось догнать и убить сына. Задушить голыми руками, сбросить с лестницы, затоптать, но он, как парализованный, сидел, согнувшись, на стуле и слушал глухие рыданья Ольги.
Подобные представления Игруня устраивал не однажды, но, думая сейчас о сыне, Василий почему-то вспомнил случай с помятой сотней.
Игруня обычно недолго гулял на свободе, дома бывал ещё меньше, но с каждой его новой посадкой веры в то, что сын, наконец, одумается и станет нормальным человеком, оставалось у Василия всё меньше. Но Ольга не теряла надежды.
В первые годы их мучила тоска от невозможности что-то реально изменить в судьбе сына, но тогда ещё молодая душевная сила поддерживала их веру. Сейчас, когда большая часть жизни была прожита, им оставалось надеяться только на чудо. Ольга страстно хотела внучку, которой бы она отдала свою нежность и неистраченную любовь. Часто ей снился ребёнок, которого она качала на руках, но вспомнить утром, кого она видела во сне, мальчика или девочку, Ольга не могла.
— Ему бы хорошую женщину, — часто говорила она мужу, — и он выправится. Он добрый, душевный, — повторяла она и с надеждой поглядывала на Василия. — Ляльку бы им. Нам, — испуганно поправлялась Ольга, — и всё бы было хорошо. Правда ведь, Вася?
Василий согласно кивал. В этот момент, глядя на измученное лицо жены, он и сам снова начинал верить, что такое может случиться.
* * *
В последнее время Василий стал замечать за собой, что он всё чаще думает о том, что уже прошло и чего, в сущности, нельзя ни изменить, ни поправить, ни выбросить, как изношенную спецовку, которую уже невозможно ни отстирать, ни починить.
Спрятав между складами свою «верную подругу», как называла самодельную тележку Ольга, Василий побрёл в сторону дома, не очень сознавая, зачем он это делает, и уже не веря, что сын мог вернуться. И Ольга, скорее всего, дома или на работе. Устроилась прислугой и стесняется ему сказать, а он и так знает. Сочувствие, жалость к жене подкатили к горлу. Дурочка, какая она у меня дурочка, с нежностью подумал он об Ольге. А Игруня, да она бы сразу ему об этом сказала. Он ведь отец, не чужой дядя, и Игруня, какой ни есть, а сын. И, может быть, он, действительно, больше всех виноват, что сын таким вырос. А то, что он сбежал из лагеря, это бред, такое только в сериалах показывают… И в голову это могло придти только с большого похмелья…
Василий с тех пор, как потерял работу, забыл и думать об этом. Его даже кто-то из бывших корешей, тоже потерявших работу, назвал политическим трезвенником.
Дружки по цеху после его очередного отказа сообразить на троих спрашивали, не зашился ли он? И Василий всегда спокойно отвечал.
— Нет, мужики, хуже, — сам себя назначил.
— Как это? — Не понимали его.
— Если весь народ, включая президента, мучается с похмелья, должен же кто-то оставаться трезвым.
Мужики после этого его заявления хохотали дружно, до колик. Политик, мол. А промеж собой решили: отлечили в дурке, вот он и гнёт позитив. Это ненадолго.
В самом деле, Василий решился на трезвую жизнь, когда потерял работу, и по наколкам корешей, и на удачу поискав место, понял, что в его возрасте ему ничего не светит, а его непрерывный стаж вообще никого не интересует. Тогда с дуру или от отчаянья он и решил стать предпринимателем, то есть — городским рикшей. Конечно, рикшей он стал российского разлива и людей не возил, только грузы, и то не тяжёлые и не очень габаритные. Пределом по весу был мешок картошки, а по габаритам средний телевизор в упаковке, стиральная машинка отечественного производства или детская кроватка. Но кроватки Василий брал неохотно, они плохо лежали в его тележке и часто вываливались. Можно было бы, конечно, подвозить и пассажирскую кладь, но на вокзалах их брата гоняли. Да и пассажиры предпочитали добираться до дома на городском транспорте.
Но работы для Василия хватало под завязку и на Центральном рынке, брал он недорого, по крайней мере, раза в два меньше, чем шабашники на жигулях и москвичах. Хотя Василий считал, что это справедливо. Во-первых, у них бензин, который всё время дорожает, а во-вторых, ремонт, если что, тоже в копеечку влетает. И потом, они не были ему конкурентами. У них свой пассажир, у него свой.
Они даже любили поболтать между собой, когда выпадало свободное время. Рассказывали друг другу, как лучше и быстрее добраться до того или до другого места. Город у них был старинный и, чтобы хорошо ориентироваться в его улицах и переулках, нужно было не только в нём родиться и знать его, как свои пять, но и чувствовать. Василий хоть и жил в городе с четырнадцати лет, но хорошо ориентировался только в своём заводском районе. Здесь он мог докатить свою тележку до места в любое время дня и ночи. Хоть с закрытыми глазами.
Изредка на горизонте у Василия появлялись настоящие конкуренты с самодельными колясками на велосипедном ходу, но почему-то быстро исчезали. Не хватало у них терпения долго ждать клиента, да и цену они заламывали наравне с таксистами. Рассказывали, что одна бабуля сказала такому велорикше:
— За такие деньги я тебя сама куда хочешь отвезу. — Бросила в тележку свою сумку и говорит: «Садись!». И он вроде бы сел, то ли от испуга, то ли покуражиться. Она его и провезла через весь рынок под хохот продавцов и покупателей. С тех пор Василий стал полным монополистом.
* * *
Василий дошёл до угла и повернул в переулок, откуда уже был виден дом и первый подъезд его «хрущёвки». По пути была ещё палатка, в которой торговали хлебом, молочными продуктами и всякой мелочью. Он подумал, что хлеба, наверняка, дома нет, зашёл в магазин, купил круглую буханку, батон и два пакета молока.
— И это всё? — игриво спросила знакомая продавщица, отсчитывая сдачу.
— На ночь много не едим, — хмуро ответил Василий.
— А у вас гости, — сказала продавщица, улыбаясь.
Василий ничего не ответил и вышел из магазина. Первое, что он увидел, были две впереди идущие женщины, которых он раньше почему-то не заметил. Одна из них несла большую матерчатую сумку и часто меняла руки.
«Наверное, с тяжёлой поклажей», — машинально подумал Василий. Другая очертаниями фигуры очень была похожа на его Ольгу. На руках у неё был грудной малыш, завёрнутый в одеяло. «Очень похожа!» — снова с удивлением подумал Василий. Когда женщина с ребёнком стала подниматься по ступенькам к подъезду, сомнений уже не было, это точно была жена. «Наверное, соседке помогает», — решил он.
Жили они с Ольгой на последнем, пятом этаже и, поднимаясь по лестнице, Василий вспоминал, у кого из соседей по подъезду были маленькие дети? «У них на площадке точно ни у кого не было. На четвёртом этаже тоже»… Перебрав соседей по памяти и никого не вспомнив, он поднялся на свой этаж и позвонил. Ему открыли не сразу, долго возились с ключом, Василий терпеливо ждал. Наконец, дверь открылась. Перед ним, ещё держась за ручку, как будто опасаясь впустить его в собственную квартиру, стояла незнакомая молодая очень крепкая щекастая деваха и смотрела на него такими испуганными бледно-голубыми глазками, что Василий невольно улыбнулся.
— Испугалась? — весело спросил он.
— Ага,- сказала она неожиданно тонким, почти детским голосом и опустила глаза.
— Кто там? — громко спросила из глубины комнаты Ольга.
— Отец пришёл,- пропищала деваха. Лицо её мгновенно стало свекольно-красным. Она закрыла его руками и убежала в комнату. Василий вошёл следом. Деваха стояла за Ольгой, безуспешно пытаясь спрятаться за его спиной.
— Кого нам бог послал? — Спросил Василий, думая, что приехала племянница, дочь старшей сестры, которую он ни разу не видел, но о которой в каждом письме сестра писала, что племянница собирается дядю навестить.
— Как Петро? Урожай убрали? — Громко с порога спросил Василий.
— Что ты мелешь? Какой Петро? Какой урожай? Ты знаешь хоть, кто к нам приехал? — раздражённо и вместе с тем торжествующе сказала Ольга.
— Не знаю, — сказал Василий, так ничего не вспомнив и не догадываясь.
— Внук к тебе приехал и сноха, понял, старый пенёк! – сказала Ольга радостно — властным голосом.
— Какой внук, какая жена? Не врубаюсь я…
— Ну, да, умный поймёт, дурак не догадается. Давай сюда покупки. Мог бы к чаю купить чего-нибудь сладенького.
— Дак, я мигом, и сладенького и горьконького возьму. Только кепку надену.
— Обойдёмся. Ей нельзя, малого кормит, мне врачи не велят, а ты с нами за компанию. Познакомься со снохой.
— Это я, как пионер, всегда готов. Вася!
— Ты ещё Васильком назовись, как пацан, или Василием Ивановичем Чапаевым. Хватит придуриваться, скажи нормально, Василий Фёдорович. Видишь, девочка стесняется. А ты ближе подойди, что же вы, за километр друг от друга будете знакомиться. — Ольга слегка подтолкнула к Василию сноху.
— Надежда Васильевна я. По фамилии Пономарёва. У нас пол деревни Пономарёвых, – добавила она, чтобы не было дополнительных вопросов.
Василию ни имя, ни фамилия ничего не говорили и, главное, он не понял, чьей она была снохой. Он вопросительно посмотрел на жену.
— Объясняю для умственно отсталых и непонятливых. Надюша – жена Игоря, нашего сына, который подарил нам вместе с Надюшей внука. Ты понял, наконец, я надеюсь.
— Я понял,- сказал Василий, хотя всё, что он услышал, показалось ему не только невозможным, но и не реальным. Он, стараясь не глядеть на неожиданную сноху, осторожно спросил:
— Да, но Игруня, наш сын Игорь, находится, то есть отбывает…
— Дальше можешь не продолжать, — остановила его жена.
— Я заочница, — сказала сноха.
— И малыш тоже заочник? — Спросил Василий и вместо ответа услышал всхлипывания Нади. Он не собирался её оскорблять или над ней насмехаться. Просто вырвалось.
— Кончай дурить, отец, будто ты знаешь, как это бывает. Сначала переписываются, потом свидания, а потом всё остальное…
— Я не гражданская жена, у меня и свидетельство есть, — с наивной гордостью перебила сноха. — Я могу показать.
— Не надо, Надюша, — остановил её Василий. — Ты лучше внука нам покажи.
— Он спит, — растерянно сказала Надежда и посмотрела на Ольгу.
— Пусть дед посмотрит, только недолго, — сурово разрешила бабушка. Они все трое вошли в спальню и остановились у порога. Поперёк их кровати лежал голубой свёрток, перевязанный косынкой.
— Ты что его не развязала? — забеспокоилась Ольга.
— Не успела… я сейчас. Обе женщины бросились к кровати. А Василий продолжал стоять у порога и с удивлением думать, что он не испытывает к внуку никаких чувств, кроме любопытства. Женщины начали разворачивать малыша, чтобы показать его деду, и потревожили его. Он забеспокоился, закряхтел и заплакал. Хотя эти звуки показались Василию очень отдалённо напоминающими детский плач, но что-то почти забытое шевельнулось в его душе и он, не осознавая того, что говорит, беспокойно произнёс:
— Что вы там делаете с ребёнком? — и шагнул к кровати. Его никто не услышал. Женщины продолжали возиться с малышом. Бабушка настойчиво совала ему бутылочку с водой, а мать так же настойчиво её отстраняла.
— Могу я, наконец, увидеть своего внука? — Спросил Василий. На него замахали: «Он засыпает». Наконец, Надежда положила его на кровать.
— Вот он какой у нас богатырь, посмотрите. — Василий подошёл поближе и долго и внимательно смотрел на малыша. Никакого сходства с собой он не находил, но это не имело для Василия никакого значения, что-то другое, чего он не мог осознать, убедило его, что перед ним действительно его внук, его продолжение.
— У него уши на ваши похожие, — услышал он голос Надежды, — такие же большие.
— Это точно, — сказал Василий. — В детстве меня лопоухим дразнили.
— Ты лучше спроси, как назвали твоего внука. Спроси, — сказала Ольга. Василий вопросительно посмотрел на сноху.
— Василием, — сказала Надежда и засмущалась. — Мы с Игорем так решили…
* * *
После появления Василия Второго, так называла внука Ольга, жизнь Трофимовых очень изменилась, и всё, что происходило до рождения внука, как-то сразу отдалилось, стало менее важным и интересным. Сноха оказалась человеком мягким и услужливым. Старалась угодить свекрови во всём, советовалась с ней даже по мелочам. И как-то незаметно стала в доме главным человеком.
Всё горело у неё в руках. Успевала и в квартире убраться и обед приготовить, с Васей в поликлинику сходить и постираться. Постирать при этом не только пелёнки-распашонки, но и бельё стариков. Ольга не могла соседкам нахвалиться на сноху. Соседки равнодушно кивали и вроде бы сочувственно спрашивали:
— А сын-то когда освобождается? — Кому понравится, если у кого-то совсем хорошо, а у тебя муж пьёт и за квартиру за три месяца не плачено… А кому-то, вот, везёт.
У Трофимовых дела действительно пошли нормально. Надежда аккуратно ездила к мужу на свиданку, возила передачи, с гордостью рассказывала родителям, что администрация колонии замечаний к нему не имеет. Но замечания замечаньями, а срок сроком, и колония есть колония, там всё может случиться.
* * *
В их неожиданно пополнившейся семье за прошедшее время, слава богу, ничего не случилось, но, несмотря на все старания Василия, денег перестало хватать. Втроём взрослые как-то бы перемогались, выходили из положения, но с малым дело стало сложнее, его одного дома не оставишь и чем попало не накормишь. Надо было решать, кому идти работать. Можно было бы Надежде, она молодая, её скорее возьмут, но она ещё грудью кормит и на свиданку к Игорю кому-то надо ездить, и Васю маленького с собой таскать. На семейном совете решили –
пусть ещё поработает баба Оля. Ольге с работой повезло, место прислуги у богатых людей сохранилось. Правда, приходила с работы она поздно, зато с продуктами. На передачи почти не тратились.
Игруня на свиданиях даже жену начал подревновывать, где его Надька такое хлебное место нашла. Надежда его еле убедила, что не её это, материна заслуга.
— Матушка у меня молоток, не то что батя. Хотя, он тоже ничего. Работяга, но без фантазии. — Сказал ей Игруня на свидании и добавил. — Пацана я тебе сделал загляденье. Главное, с первого раза. И на меня, кажется, похож. Хотя, подрастёт, узнаем. Надюша, что я тебе скажу, ты лучше не вози ко мне Ваську. Пока… Тут в больничке у меня что-то откопали. Температурю я постоянно и кашляю больше положенного. Кореша говорят, если не прекращу, успокоят подушкой. — Игруня принуждённо засмеялся. — Иди, в общем. Мамаше пока ничего не говори.
Домой Надя пришла заплаканной, долго ничего толком не могла рассказать и повторяла одно и то же. Она замечала давно, что Игорь себя неважно чувствует, но он не жаловался, а она не спрашивала. Игорь не любит. А теперь, он совсем больной, почернел весь, щёки запали… И Надежда снова начинала плакать.
Василий отвёл сноху на кухню и тихо, чтобы не слышала Ольга, начал успокаивать:
— Ты заранее душу не рви, ещё ничего не известно, бывает, человек так болеет, так высохнет, что смотреть не на что, а потом глядишь, он всех живых пережил.
— Да, он, конечно, похудел, но не так чтобы…
— Ну, вот видишь. Похудел, поправится. Ты лучше иди корми ребёнка, пока молоко не испортилось.
И правда, через месяц на свидании Игорь выглядел посвежевшим и, хоть не набрал веса, но был краснощёким, румяным и всё время повторял, что он уже неделю лучше себя чувствует, что ему дали такое лекарство, от которого у него и настроение повысилось и аппетит стал лучше. Врач ему сказал, что это лекарство будут давать каждый день, пока он не поправится. И может быть, его домой отпустят. Не совсем, конечно. Хотя бы в отпуск. Краткосрочный…
Надя приехала со свидания счастливой и похорошевшей. А ещё через неделю им доставили казённую бумагу, в которой сообщалось, что заключённый И.В. Трофимов, в связи с неблагоприятным течением (обострением) хронического онкологического заболевания решением суда освобождается из-под стражи на попечение родственников. На бумаге стояла круглая печать, неразборчивая подпись и была приписка от руки: Желательно зак. И.В. Трофимова вывезти на собственном транспорте или на такси.
Расписавшись за получение казённого письма на лестничной площадке, Василий решил ехать за сыном один. Без жены и снохи. «Посмотрю, что и как, потом позвоню с мобильника». Он поймал такси, но таксист, узнав в чём дело, посоветовал ему поймать частника с фургоном или скорую помощь подрядить.
— Это обойдётся тебе немного дороже, зато верняк. Если тебе его на носилках вынесут, как ты его в такси будешь заталкивать?
* * *
В колонии вышло всё так, как предсказывал таксист. С той только разницей, что Игоря принесли не на носилках, а привезли на каталке. Василий растерянно смотрел, как два пожилых санитара из заключённых, кряхтя, снимали сына с каталки.
— Ты, отец, подсоби, он хоть и не особо тяжёлый, но неловкий, всё время выскальзывает, — сказал санитар, державший Игоря под мышки. Втроём они втащили его в старый медицинский Уазик и, как могли, усадили. Василий сел напротив. В Уазике было полутемно, но они видели глаза друг друга и молчали.
Многие годы они провели вдалеке друг от друга, и те чувства, которые называют сыновними и отцовскими, были ими пережиты совсем не так, как они переживаются большинством близких людей, и если бы у них хватило на это мужества, они должны были признаться, что многие годы практически не думали друг о друге так, как должны думать очень родные люди, у которых течёт по жилам одна одинаково согревающая их кровь.
Просто один знал, что у него есть отец, который никогда не поймёт и не простит его, а другой знал, что у него есть сын, никчёмный, неблагодарный уголовник, не признающий обычной человеческой жизни и людского порядка.
И в том, что между ними сейчас возникла хоть какая-то человеческая связь, была заслуга двух женщин, для которых они при любых обстоятельствах оставались мужем и сыном.
Игорь понимал, что осталось ему жить очень мало, и не находил в душе того важного, что он должен был сказать, успеть сказать отцу. Василий тоже понимал это и чувствовал только боль, которую испытывает родитель, теряя ребёнка. Перед ним сидел почти старик, измочаленный судьбой и болезнью, он понимал, что сын нуждается в словах поддержки, ободрения и надежды, но испытывал к нему только любовь, для которой у Василия не было слов. Василий протянул руку и осторожно положил её на коротко стриженную голову сына. Игорь осторожно снял руку отца и прижал её к своей щеке. Она была влажная от слёз. За сорок минут дороги они не сказали друг другу ни слова.
* * *
Дома хотели усадить Игоря за стол, чтобы, как положено, выпить, закусить. Но он отказался. Уложили его рядом с сыном на широкую кровать стариков. Маленький Вася проснулся, смотрел на потолок, вертел глазками и гукал. Игорь тихо смеялся. Осторожно трогал сына рукой и даже пытался поймать за крошечный пальчик.
— Какой шустрый парнишка! Может, и я такой был?
— Ещё шустрее, — усмехнулся Василий. Игорь заметил эту невольную усмешку отца и больше в разговор не вступал.
Подошла Надежда, спросила, не хочет ли он поесть.
— Нет, — сказал Игорь резко и с неприязнью. — Я чем меньше поем, тем больше проживу, — сказал он с грустной обречённой улыбкой. — Устал я что-то, видно растрясло. Спать хочу. Повидались, поговорили, и пора на покой.
Надежда достала большое ватное одеяло, чтобы укрыть его и самой лечь рядом вместе с маленьким Василием.
— Не надо, я сплю не спокойно, могу испугать ребёнка. Ты меня лучше на диван как-нибудь устрой или на раскладушку, если есть.
Его устроили на раскладушке в спальне. В комнате, где был диван, стоял телевизор, там как раз показывали хороший сериал. После сериала долго, до глубокой ночи разговаривали. Как всегда, обо всём, но главное, о том, как им лучше расположиться в их маленькой квартире, когда их стало две семьи. Ни до чего конкретного не договорились, и старики легли спать.
Надежда проверила, как спит муж, подоткнула ему одеяло. Потом покормила грудью маленького Василия, подстирала детские и свои вещички, легла на диван и заснула. Надежда не знала, сколько она спала, только проснулась от странного звука, который не был похож на человеческий голос, но очень тревожил. Надежда накрылась с головой, но это не помогало. Женщина привстала на диване и тут же поняла, что воет свекровь. Надежда упала лицом в подушку и зарыдала беззвучно, сотрясаясь всем телом.
Валерий Мурзаков