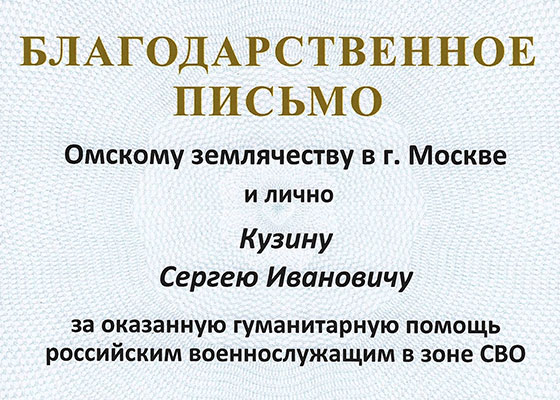Леонид Чашечников: «Все боли мира сходятся на мне»
8 Марта 2013 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения замечательного русского поэта, нашего земляка Леонида Чашечникова.
По поводу даты своего рождения поэт шутил, что от 8 марта в его душу пролилась особая нежность к женскому полу. «Я был любимым лучшими из женщин, но, Господом с поэзией обвенчан, остался одиноким навсегда».
 Всё, что скажу о нём, будет по праву памяти тех лет, когда он, как поэт, только начинался. Это было в Омской области, в нашем родном сибирском городе Таре. При редакции районной газеты, где мы в 1956 году вместе стали работать, он заявил себя сразу двумя поэмами. Позднее эти поэмы он не включал ни в один из десяти вышедших при жизни сборников, но они дали повод заговорить о таланте поэта. Вся дальнейшая жизнь – в его стихах. Может быть, и вот в этом признании:
Всё, что скажу о нём, будет по праву памяти тех лет, когда он, как поэт, только начинался. Это было в Омской области, в нашем родном сибирском городе Таре. При редакции районной газеты, где мы в 1956 году вместе стали работать, он заявил себя сразу двумя поэмами. Позднее эти поэмы он не включал ни в один из десяти вышедших при жизни сборников, но они дали повод заговорить о таланте поэта. Вся дальнейшая жизнь – в его стихах. Может быть, и вот в этом признании:
Ёлки-палки! Заплакать охота,
Да не помню, чтоб я завывал.
…То карьер, то гнилое болото,
То барак, то промозглый подвал.
Ёлки-палки! – то лес, то валёжник,
То пила, то топор, то кайло,
То в прокопьевских шахтах крепёжник –
Оглянулся – полжизни ушло.
А теперь удивляется кто-то,
Что к полста не успел преуспеть.
Ёлки-палки! – заплакать охота:
Как же я умудрился запеть?!
В воскресенье 19 декабря 1999 года у меня дома раздался междугородний телефонный звонок. Междугородние звонки отличаются от городских – они пугающе частые. Даже по пустяку трезвонят как с пожара. Но тут действительно… Незнакомый мне человек, звонил из подмосковной деревни Семенково. Это место неподалеку от Сергиева Посада вот уже несколько лет жило в моем сознании слитно с Чашечниковым.
Неделей раньше Леонид сам звонил мне оттуда, сказал, что дней на десять ложится в больницу. Договорились, что я позвоню ему после вторника. Но вот, вклинился этот воскресный звонок, известивший, что надо ехать на похороны. Леонид умер ночью на пятницу в участковой больнице на 67- году от роду. Сердце разорвалось во сне. Смерть оказалась легче жизни, в которой он маялся и слишком долго был одинок – под конец остался в своей однокомнатной квартирке вдвоем с котом Шуркой. Не торопитесь с вопросом: « почему?» – он больше всего на свете не любил вмешательств в свою личную жизнь и тремя инфарктами с перерывами в несколько лет заплатил за все, что выпало ему по судьбе.
Но если бы я даже попытался отвечать на сакраментальный вопрос и как-то судить друга юности за небережливое отношение к себе, то суд мой оказался бы мягче его собственного, чинимого постоянно над самим собой.
По воле рока — до конца, до срока
Все боли мира сходятся на мне.
Следы порока и печать пророка
Отмечены в очах и седине.
Это еще цветочки, есть и ягодки: «… на все, что песнями воспето, дождем упала кровь и боль поэта». А песен-то у него – десять изданных при жизни книжек! Написано значительно больше.
Нет, судить я его не буду. Ни за «лучших женщин», ни за выпитое вино. Ни за перемену мест обитания (родился и вырос на омской земле, как поэт расправил крылья над Нижней Волгой, в Астрахани, закончил путь в Подмосковье). И бесполезно судить. Надо прочесть и перечесть все им написанное, и ответ придет сам собой – это типичная жизнь таланта, умещенная в один мотив, в одну песню, в которой ни строчки, ни слова нельзя перепеть иначе.
Мне надо повыше подняться
Над серым, безрадостным днем,
Над шелестом чахлых акаций,
Над домом и склоками в нем,
Над гордо приподнятой бровью,
Над песней, что спел соловей,
Над женской ревнивой любовью
И всем, что сопутствует ей.
Я смог добраться до Семенкова лишь за полтора часа до похорон. Посреди села нелепо торчат несколько панельных пятиэтажек, в одной из которых на третьем этаже и находилась последняя пристань поэта. Преодолеваю четыре лестничных марша со стоптанными ступенями. Обитая мореной рейкой дверь легко подалась, и с порога я увидел незнакомых людей. Какие-то мужчина и женщина были на кухне, еще несколько человек смотрели на меня из комнаты. Наверное, я их удивлял ищущим взглядом, остановившемся, наконец, на двух простеньких венках, прислоненных к книжному шкафу.
Женщина на кухне спросила:
– Вы кто?
Люди не могли меня знать, они были из этой, сегодняшней жизни моего старого друга, в которую я вторгался сравнительно редко, причем по телефону чаще, чем наездами. Они зовут его непривычно для моего уха – Леонидом Николаевичем. А для меня он сорок с лишним лет оставался Лешкой ( так его в Таре звали все в нашей редакции, где мы вместе трудились «литрабами»: не Ленька, а Лешка, почему – не знаю). Это были сергиевопосадские литераторы, которых он успел объединить вокруг себя, некоторым дал рекомендации в Союз писателей России. Словом, знать меня в лицо они не могли. А вот кот Шурка по — родственному потерся о мою ногу…
Главный вопрос, который меня интересует, – приехал ли кто из родных? Общественность и литературоведы чаще плачут задним числом. Тут незаменим свой человек. Сестра Тамара живет в Астраханской области. Дочь от первой жены – в Красноярске. В его залихватской молодости была романтическая история, воспетая им во многих стихах. И уже в зените лет разыскал его славный паренек Сашка и, против обыкновения, ничего другого не попросил, кроме права носить его фамилию. Тогда Леша усыновил… тридцатилетнего сына – нелепо звучит, правда? Но, знаю, он до конца дней гордился таким поворотом судьбы. Сын живет на севере Омской области. Попробуй, собери нынче всех, когда билет на самолет зашкаливает для среднего россиянина за пределы всяких утрат.
Похороны на чужбине – это в жутковатой яви как возмездие нам за то, что мы, гоняясь за журавлями в небе, покидаем свою родину. Леша в стихах воспел и эту печаль:
Да, я люблю, пронзительно люблю
Угрюмый лес и пасмурное поле,
Да, я скорблю – который год скорблю
О родине моей, о вольной воле.
Завидно мне, что деды и дядья –
И на погосте посреди знакомых.
От матери частенько слышал я:
«Здесь хорошо, а помирать бы дома…»
Я вздрогнул, услышав за спиной свое имя. Слава Богу, это была Тамара, Лешина сестра, которую я не видел, наверное, лет сорок. Она приехала с мужем Анатолием из Астрахани. Мы, обнявшись, поплакали. И почти сразу же кто-то из вошедших произнес роковое слово: «привезли». Мужчины стали хватать с вешалки одежду, выходить на площадку. Снизу через открытую дверь подъезда доносились голоса, и задувал холодный ветерок, приправленный запахом хвои. Кто-то меня обгонял с двумя табуретками навесу. Когда я спустился, красный гроб с нашитым по верху черным крестом уже стоял на этих табуретках у подъезда. Двое мужчин сняли крышку. Есть выражение: гробовая тишина – это как раз относилось к наступившим минутам.
Я приподнял с лица покойного белое кружевное покрывало. Леша был таким, какого я видел менее чем два месяца назад. Только молочная белизна покрыла лоб и щеки. В черных усах виднелись проблески седины, и, совсем не портя вида, под едва заметной улыбкой пенилась белая- пребелая, примерно недельной давности, небритая борода.
Принесли крест, сработанный по всем церковным правилам и с распятием. С возрастом Леша все сильнее врастал в веру. Имел духовника из православных священнослужителей. Как-то мы вместе были в Троице-Сергиевой лавре, тогда я понял, что и этот мотив в стихах льется от чистого сердца:
Любовь и грусть, цветы и дети,
Вкус молока и запах хлеба.
За все, что в жизни мне завещано, –
Спасибо Господу и Женщине!
Привезли священника. Это был настоятель церкви из соседнего поселка Пересвет. Весь такой классический, здоровенный, с окладистой бородой и красивым басовитым голосом. Две женщины, которых Святой Отец называл по имени, стали вместе с ним готовить обряд. Они укрыли тело специальным церковным покрывалом, на лоб положили венчик, и Леша как-то сразу от всех отдалился, стал потусторонним. Когда женщины запели молитву, батюшка, выждав две-три фразы, по — шаляпински принял их распев и на низкой ноте довел до полной тишины. Короткая пауза, и снова торопливый речитатив, похожий на причитания. И снова покойный бас священника. Кто-то сказал мне, что батюшка здесь где-то поблизости руководил музыкальным училищем, затем принял сан и из руин воскрешал разрушенный храм в Пересвете. Теперь вот служит на священном поприще.
Закончив пение, батюшка поучает, в каком порядке надо вершить траурное шествие. Кто-то подошел с портретом покойного. Леша был снят для очередной книжки, наверное, ему хотелось смотреть с обложки залихватски – весело, с дымящейся перед лицом сигаретой… Священник строгим движением руки отстранил портрет, что-то еще сказал в назидание, и портрет унесли в кабину стоящей поодаль машины. Впереди процессии он поставил несущих крест, затем – людей с венками и крышкой гроба. Затем сам встал в колонну, за ним шестеро молодцов подняли красный гроб. И тут я заметил до жути трогательную деталь. С гроба или забыли, или не посчитали нужным снять ценник. Фанерная бляшка с карандашной надписью «1900» желтела на красной материи в том месте, где над краем гроба возвышались носки неношеных туфель, формально обутых уже не для ходьбы, а для полета.
Много раз видел, как хоронят литераторов. Больших и не очень. Во все времена кем-то устанавливался ранг похорон. В зависимости от ранга выделялись залы, кладбища. И даже гробы. До некоторых пор и в посмертных почестях замечалась определенная цензура. Сейчас все смешалось, на процедуру похорон расползлась аура не столь заметного ранее золотого тельца. Богатых и «крутых», словно откупаясь, или на радостях упаковывают в навощенные импортные ящики с открывающимися, как у самолета, «фонарями». Будто им там вылезать перед вратами рая или ада.
Скромный обряд для Чашечникова был куплен невесть на какие деньги. Три года назад он продал свою двухкомнатную квартиру в Балашихе, переселился в Семенково. Получая всего 300 рублей пенсии, он, разумеется, транжирил разницу между стоимостью балашихинской квартирой и здешней однокомнатной клетухой на житье. Знаю, стеснять себя он не любил, даже купил машину «Волгу», хотя сам за рулем никогда не сидел, для разовых поездок нанимал шофера, да по 100 рублей в месяц платил за стоянку. Когда деньги кончились, пришлось машину продавать, выручка была в четыре раза меньше затрат на покупку. Из остатка оплатил первый завод книги «Русская голгофа» тиражом 500 экземпляров. Второй завод рассчитывал запустить на деньги, вырученные от продажи первого, а уж второй том – после распространения второго завода. Такой план он развел как раз до своего семидесятилетия, то есть до 2003 года. Но тут настигла болезнь. Четыре года не дотянул. В последний мой приезд к нему в конце октября он попросил переправить три упаковки для библиотек в Тару.
Это десятая по счету книга. Самая солидная: двести пятьдесят стихотворений и две поэмы. У членов Союза писателей России в советские времена была правильная традиция – давали возможность в честь больших юбилеев как бы отчитаться перед читателями солидной книгой. Шестьдесят лет Чашечникову исполнилось в 93-м. Он жил тогда в Балашихе, собрал стихов на два тома и еще продолжал интенсивно работать. Но тот, советский СП с его традициями, с держателем богатств, литфондом, вдруг развалился…
На погребение приехало человек двадцать. Началась процессия прощания. Как раз пошел густой снег. И пока приближаюсь в хвосте процессии к гробу, моя память по строчке выдает полузабытое:
Снега, снега! Как вы белы,
С какою падаете негой!
Вы мне по-прежнему милы —
Не мыслю родины без снега.
Снега, снега! В конце концов,
Неотвратима мысль простая:
Снежинка сядет на лицо
И, удивившись, не растает…
Когда он был жив, мне не казалось, что эта строчка – о смерти. Впрочем… Кажется, у Льва Толстого сказано, что, только задумываясь о смерти, человек начинает понимать жизнь. Нет, наверное, это все же не о кончине в прямом смысле. Это из области философии. Мудрая наука – философия. В ней есть закон отрицания отрицания. Не по этому ли закону при неуемной жизненной энергии пишутся грустные стихи? Кем-то верно сказано: грусть – это восхождение к святости. Леша – певец русской печали. Спросят: почему – русской? Неужели и печаль имеет национальность? Да! Необъяснимую словами, подспудную. Она даже не для слов существует, а для музыки стиха… Ее изначальность, ее субстанция – душа. Мы же не требуем пояснений, когда слышим выражение: «русская душа». Чашечников это продолжение Кольцова, Есенина, Федорова…
Когда человек ушел, ничто уже не может ни убавить, ни прибавить к его достоинствам и недостаткам, если, конечно, полностью исключить лжесвидетельство. Но можно бесконечно итожить крупицы опыта, оставшегося от общения с ним. Он был на четыре года старше меня и служил для меня примером того, как можно, «не кончая академий», стать образованнейшим человеком своего времени. Окончив Тарское культпросветучилище, он неплохо играл на баяне, был прекрасным чтецом. Помню концерт художественной самодеятельности в сельском клубе. Леша уговаривает кого-то выпустить его на сцену. Уговорил. И прочел монолог Незнамова из пъесы Островского «Без вины виноватые». Зал замер на вздохе, а после долго не отпускал его со сцены.
Позднее, уже на пятом десятке лет, Чашечников окончил Высшие литературные курсы (ВЛК) при Литинституте имени Горького. Но в основном сумел «сделать» себя сам. По многим вопросам истории России, особенно в части ее псевдореволюционных, антиправославных прегрешений перед русским народом, он был, без преувеличения, энциклопедистом. Мы не раз цапались по политическим мотивам, я был «партийнее» его, правильнее, что ли, по советским идеологическим критериям. Не случайно волны горбачевской перестройки прибили его к газете «Советская Россия», которая в бытность ее главным редактором Михаила Ненашева громила и сокрушала догматы ортодоксального коммунизма. Чашечников явил тогда незаурядные способности демократического публициста. Но пройдет еще с десяток лет, и он ужаснется результатами перестройки, за которую сражался в «Советской России». Появится его стихотворение «Распродажа»:
Идет распродажа. Не сеем, не пашем,
Садов не сажаем, не строим дорог, –
Идет распродажа в Отечестве нашем –
Вгрызаются соросы в русский пирог…
……………………………………………………….
Очнитесь, славяне! Во лжи, словно в саже,
Вы святость отцов позабыли, сыны!
Идет распродажа, идет распродажа,
Идет распродажа великой страны!..
… Стараниями одного из друзей Чашечникова, сергиевопосадского поэта Николая Братишко, на кладбище в селе Рогачёво поставлен камень с портретом и надписью. Мы с Николаем бываем здесь по два-три раза в год. Зимой топчем от проезжей дороги снежную тропу, летом рвём траву, оставляя на могиле лишь кустик папоротника и цветы, осенью слушаем тишину и шорох опадающих с клёна листьев. Клён, соревнуясь с вязами, вытянулся на небывалую высоту. Прошлой осенью Коля сказал, что здесь не хватает рябины. Я согласился: да, не хватает. Эту мысль нам напомнили его стихи. «Клён сгорел, рябина догорает». Замолкаем: у Чешечникова последняя строка этого стихотворения провидческая, произносить её не хочется: «Впереди и Родине гореть». Когда были написаны эти строки? В книгах они датой не помечены.
Камень с портретом стоит лицом к могиле, которая лишь на полгода младше Лёшиной. Коля сказал, что в ней похоронены бойцы Сергиево-Посадского ОМОНа, расстрелянные из засады в Чечне. Одни из тысяч жертв этого нелепого пожара. Одна из тысяч могил такой странной теперешней войны…
Михаил СИЛЬВАНОВИЧ, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР.
Леонид ЧАШЕЧНИКОВ.
ЦВЕТЫ И ТЕРНИИ ЛЮБВИ
* * *
Меня крестьянка родила
Под всхлипы мартовской метели,
В избушке, на краю села,
Где под окном дремали ели.
Там знали горе и нужду,
Трудом мозоли наживали,
Там бабы скудную еду
Слезами часто запивали.
Любил тайгу мой старый дед:
На глухариную охоту
Водил меня в тринадцать лет
За Васюганские болота.
Была мечта у старика,
Он говорил не раз соседу:
«Ращу я внука-лесника
На смену прадеду и деду.»
Не оправдал я этих слов.
Дорогу в жизни выбирая,
Я взял в наследство лишь любовь
К суровому лесному краю.
Я видел много: степь в цвету,
Ущелья, кружева прибоя,
Но всю земную красоту
Я сравнивал, Сибирь, с тобою.
Как затянулся мой поход!
И оттого порой взгрустнётся,
Что, видно, сел на пароход,
Который в гавань не вернётся.
* * *
По воле рока — до конца, до срока
Все боли мира сходятся на мне.
Следы порока и печать пророка
Отмечены в очах и в седине.
Цветут сады, или метёт пороша,
Парит орел, иль кружит вороньё,
Кустится рожь, иль опадает роща —
Всё это сквозь меня, во мне, моё!
Я этим миром мятый, битый, клятый,
Страдающий от боли и тоски,
Боюсь строки фальшивой, как расплаты
За пепел лет, осевший на виски.
Живу у строк в пожизненной неволе.
Но, походя, с оценкой не спеши,
Пока не разглядишь на зрелом поле
Горчайшую полынь моей души.
ЛЮБЛЮ ГЛУБИННУЮ РОССИЮ
Люблю глубинную Россию:
Чтоб сразу за селом — леса,
Чтоб по утрам дымки косые
Завинчивались в небеса.
Чтоб от росы на зорьке дрогнуть,
Вожжами шлепать по шлее,
Чтобы подрагивали дроги
На допотопной колее.
Шагать дорогою, которой
Шагал за возом прадед мой,
Чтоб ни трамвая, ни мотора,
Ни толчеи в пути домой.
Чтоб после бани на крылечке
Курить и думать не спеша,
И слушать, как жуют овечки,
Трухой душистой шебурша.
Потом, при тусклом свете сидя,
В кругу семьи гонять чаи.
Но обречен любить и видеть
Глубинку ту из толчеи,
Издалека.Манит и дразнит,
Знать, оттого и дорога
Россия та, что давний праздник
Заносят памяти снега.
На гребне лет, крутой и нервный,
У века бурного в долгу,
Я в тишине такой, наверно,
Не долго выдержу — сбегу!
Но в час, когда закрутит лихо —
И ссоре быть,и быть беде —
Вздыхаю о России тихой,
Которой нет почти нигде.
ПОКОСЫ
Старею, что ли,— вот и осень —
Всему свой срок, всему свой срок…
И на виски густую проседь
Не зря навеял сиверок.
Легли морщины криво-косо,
Но что поделать я могу!
Мне снятся до сих пор покосы
И потайной шалаш в стогу.
Послевоенные покосы!..
Среди безмужнего бабья
Была одна. Прости мне, Тося,
Что нынче тайну выдал я.
Но лет-то столько миновало!
Быль чернобылом поросла.
О, как ты, Тоська, целовала —
Взахлёб, без меры, без числа!
Была ты на пять лет постарше,
Вдовой солдатскою была.
При строгих нравах шашни наши
Считали срамом для села.
Недолгим было это лето:
Однажды, на исходе дня,
На древний пароход «Столетов»
Меня спровадила родня.
И я — ни мальчик, ни мужчина,
Тебя оставив на юру,
В корме разматывал кручину
И думал: утоплюсь, умру.
Не умер я, не утопился.
Матрос, вертлявенький, как бес,
Принёс бутылку, я напился,
А через сутки в Омске слез.
Я шёл по жизни сквозь заносы
И по асфальту городов,
Но помню, помню те покосы,
И ту вдову из тысяч вдов.
Разлуки были, встречи были —
Их след остался в седине.
Теперь я знаю, что любили
В то лето не меня во мне:
И ты , вдова, не виновата,
И не было моей вины,
Что походил я на солдата,
Который не пришёл с войны.
НА СТАРОМ ПОДВОРЬЕ
Земля устала ждать и плуг зарос бурьяном.
Ржавеет под стрехой старинная коса.
Из дали давних лет, из памяти туманной
Доносятся ко мне былые голоса.
В село из-за реки плывёт покосный запах.
Парит кукушкин плач на крыльях тишины.
Осевшая изба глядит, глядит на запад,—
Напрасно ждёт она хозяина с войны.
Пью горечь жухлых трав, хмелея, не пьянею,
Задумчиво брожу заросшею межой.
Родимая земля! Что бы случилось с нею,
Когда бы не лежал солдат в земле чужой?!
Сияет синий день, а сердцу одиноко.
И снова в той беде, в том памятном году
Глядит изба в закат глазами тусклых окон,
Безмолвно плачет плуг, уткнувшись в лебеду.
ВОСКРЕСЕНЬЕ В ДЕРЕВНЕ
Ревут радиолы и » маги» надсадно визжат,
Сквозь стены и двери, сквозь щели бетонного пола.
На пытке у звуков мой череп в диезы зажат
Мелодий и ритмов — нахальных, печальных, весёлых.
Содом и Гоморра! Зверею. Но я не о том —
Куда убежишь от чудес коммунального быта?!
Стоит средь лесов и полей многоярусный дом,
Стоит средь деревни, где сущность деревни забыта.
Болит голова.Не беда — завяжи и лежи,
Таблетку запей молоком — и очнешься здоровым.
Но нет молока. Притулились к домам гаражи,
Где сытно пыхтели когда-то в сараях коровы.
Стираются грани… Зачем — не пойму, хоть убей!
Уклады стираются, совесть, обычаи, нравы.
Беззвучно орет на балконе чумной воробей —
Тебе ль состязаться, чудак, с электронной оравой!
В груди перебои. Я замер, сижу не дыша,
Вибрируют руки, и лоб покрывается потом.
Наверно, во мне в этот миг умирает душа
И вместо неё нарождается злобное что-то…
В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ
Похоже, сместились года и эпохи:
Здесь новое — в старом, а в новом — старьё.
Ещё не решило: что ладно, что плохо,
Видавшее виды гнездовье моё.
Как раньше от веры в Исуса не стали
Легко отрекаться, так нынче в избе
Висят на заборке Столыпин и Сталин —
Два разных предтечи в народной судьбе.
Истлевшие фото с Витима и с Вислы
Слежались под гнётом утрат и наград…
Живут, как на кладбище здравого смысла,
Где правда и кривда сошлись на парад.
С трудом расстаются деды со вчерашним —
Не ведавший сраму, судить воздержись! —
Не просто, когда на великом и страшном
Замешана круто крестьянская жизнь.
…В престольной строчат мемуары и письма,
Нажить капиталец на прошлом спеша,
Живём, как на кладбище здравого смысла,
Где даже заблудших жалеет душа.
* * *
Клён сгорел. Рябина догорает.
Бред тумана тянется с реки.
Я ль не нарекал Россию раем,
Оглушённый яростью строки.
Я ль не пел великую Державу
И её бестрепетную рать —
Не за право жить, а лишь по праву
На миру достойно умирать?!
Тишина предзимняя над краем.
Видится сквозь мертвенную мреть:
Клён сгорел. Рябина догорает.
Впереди — и Родине гореть…
1991 г.
В РАСПУТИЦУ
Мы ждём вдвоём попутку у парома.
Мы пиво пьём, а жизнь — невесела.
Знакомый мой — мне вовсе незнакомый,
Он, как и я, давненько из села.
А над рекой опять наносит тучу,
А грязь такая — Господи, спаси!
Вздыхает мой пижонистый попутчик:
— Сейчас бы захудалое такси!..
—Такси, в такую хлябь? Загнул, чудило!
Совсем ополоумел Гришкин зять:
Сейчас бы просто пегую кобылу,
Да негде на Руси кобылу взять.
…Мы шлёпаем на тракторе по тракту.
Попутчик мой расселся, как в такси.
Ругаю дождик. Воспеваю трактор —
Вполне надёжный транспорт на Руси!
В ИЮНЕ
Познав сомненья и тревоги,
Поднаторев изрядно, я
Присел у столбовой дороги
В тени под Древом Бытия.
Меня томили лень и праздность —
Куда спешить, зачем спешить?..
Но взорван был внезапно праздник
Отдохновения души:
Среди лугов и летних пашен
Трудились пёстрые шмели;
А по дороге танки — наши,
А, может быть, не наши, шли…
И мне подумалось: на свете
Коварство правит и металл.
Зачем тогда родятся дети,
Влюбленным шепчет краснотал?!
…Но по тропинке шёл ребёнок,
И пели песенку шмели,
И ржал мухортый жеребёнок;
И скрылись чудища вдали —
Угомонился лязг металла
В святой симфонии земли.
И все же веры не хватало,
Что танки на ученья шли.
ЛОМАЛИ СТАРУЮ ТЮРЬМУ
Ломали старую тюрьму:
Неволю рушили и тьму,
Решётки стригли автогеном.
Надсадно рвали тягачи
Запекшиеся кирпичи
И пыль, как кровь, текла по стенам.
Ломали старую тюрьму.
Старик промолвил: —»Не пойму,
Крепка тюрьма, а рушат? Странно.»
«А что тут странного, отец, —
На скорбях возведут дворец
И про тюрьму забудут.»— «Рано!»
Ломали старую тюрьму.
Народ глазел на кутерьму,
На ярость кранов многотонных.
Кто шутку отпускал, кто мат.
Не всякий знал, что каземат
Построят новый. Из бетона.
В СИБИРЬ ЗА ПЕСНЯМИ
Как назвать мне это самое,
Если в полдень и в ночи
Вижу я дороги санные,
Голубые кедрачи;
Вьюги снежные, тугие,
Шорох ветра у виска?..
Говорят, что ностальгия,
Или попросту тоска.
Только плакать я не стану
По снегам, по кедрачу —
Я закрою плотно ставни,
Накрест дверь заколочу;
Я рюкзак за плечи вскину,
Укачу в урман и снег.
Мне соседи бросят в спину:
» Ненормальный человек.
Было то и было это —
Задурил, и трын-трава.
И куда-то на край света,
Словно в рощу по дрова…»
Невдомёк им, домоседам,
Неприкаянность моя.
Я в Сибирь за песней еду —
Душу там оставил я!
ДИАЛОГИ
(триптих)
—Зачем уходят корни дуба в землю?
—Чтобы питаться соками земли.
—А почему врастают так глубоко?
—Чтоб ветры дуб обрушить не смогли.
—Зачем простёрты ветви дуба в небо?
—Просить, чтоб дождик выпал в жаркий день.
—А для чего на них листва густая?
—Чтобы присел усталый путник в тень.
—Куда идёшь в жару, усталый путник?
—По делу, нет которого важней.
—Зачем спешишь? Успеется, ты молод?..
—Вернуться в срок я обещал жене.
—Твоя жена красавица, наверно?
— Нет, безобразна, добрый человек.
—Зачем же ты уродину брал в жёны?
—Я не на час женился, а навек.
—Красавица, что смотришь на дорогу?
—Чтоб время в ожидании убить.
—Но разве нет средь нас мужчин достойных?
—Я обещала одного любить.
—Не он ли в полдень отдыхал под дубом?
—Коли красив да статен — значит, он.
—Но он свою жену назвал уродом!..
—Лишь дураки прохожим хвалят жён.
* * *
Круизы стали светским тоном:
Друзья, чтоб поддержать престиж,
Стремятся укатить из дома —
Кто в Рим, кто в Лондон, кто в Париж.
Годами втихомолку копят
Червонцы, трёшки и рубли,
Чтоб прошвырнуться по Европе,
Побыть от Родины вдали.
Ну, что ж, Европа — так Европа! —
Катите ради куражу.
Не по европам, по окопам
Я нынче в отпуск поброжу.
Берлин и Кёльн, Мадрид и Рома,—
Всё «эль» да «эр» — петля, топор…
Я видел ту Европу дома
Такой, что страшно до сих пор.
Мне говорят: она иная —
Немало пролетело лет.
Но я не знаю, я не знаю,
Как в сердце вытравить тот след!
…Я тоже удивлю знакомых:
В дорогу вещи уложу,
Скажу — в Париж! — останусь дома
И по России поброжу.
ПОЛЫНЬ
Земли ядрёный запах.
Апрельская теплынь.
Встаёт на мягких лапах
Белёсая полынь.
Она ещё не стойка,
Ещё нежна пока,
Она ещё не столько
Горюча и горька.
Люблю полынь не меньше,
Чем на лугах цветы —
Судьбу российских женщин
Напоминаешь ты.
Тех, кто красой не очень,
Стояли в зной и стынь
Вдоль трактов у обочин,
Упрямо, как полынь.
Смотрели нам в макушки,
Забритые «под ноль»,
Скрывая в светлых душах
Чернее тучи боль.
А мы — всё уходили,
Потупив в землю взор:
Кто — в небыли,
Кто — в были,
Кто — в славу,
Кто — в позор.
РАЗГОВОР В КРЫМУ
Я в курортных дебрях Крыма приобрёл себе дружка —
Кержака, не то с Нарыма, то ли с Лены кержака.
Он вольготно окал басом, развалившись на песке,
Запивая воблу квасом, принесённым в туеске.
Я сказал ему: — Под рыбку пиво было б в самый раз…
Пряча в бороду улыбку, он заметил: — Лучше — квас!
И добавил, чуть помедлив, у виска крутнув рукой:
Ты вон чой-то пил намедни, ноне, вишь, смурной какой.
Ну, а ты из староверов,из непьющих? — говорю.
— Да почто?Но, для примеру, вот не пью и не курю.
Даже, скажем, после бани, иль на свадебном пиру?
После бани этой дряни я и вовсе не беру!
Как пошляюсь по чарыму — то на лыжах, то пеша —
Баня, брат, почище Крыму, и без водки хороша! —
— Ну, а как по женской части, — намекаю. — Всё ж —курорт!.
— Не ищу от счастья счастья, да и бабы — третий сорт!
Вот моя, опять к примеру, что с походки, что с лица…
Тут я, паря, старой веры: с первой ночи до конца!
Брак — оно двойное иго: и любовь и кабала.
Ну, а ты, видать, мотыга, вертопрах — и все дела!
Он сердито встал. Ладошкой отряхнул с трусов песок
И потопал по дорожке, взяв под мышку туесок.
Пораздумав, взвесив трезво всё, что он наговорил,
Я до самого отъезда и не пил, и не курил.
Шутка — шуткой. А серьёзно, откровенно говорю:
Кое в чём меняться поздно: пить — не пью, курить — курю.
И завидую без меры, вплоть до скрежета зубов,
Тем, кто верит старой верой в неразменную любовь!.
* * *
А был ли я тщеславен? Нет и да.
Любил, когда работа получалась,
Когда красотка на свиданье мчалась,
Презрев мои седины и года.
А был ли я завистлив? Нет и да.
Мечтая о грядущем воскресении,
Завидовал Рубцову и Есенину —
Богатству или власти — никогда!
А был ли я счастливым? Нет и да.
Я был любимым лучшими из женщин,
Но Господом с поэзией повенчан,
Остался одиноким навсегда.
БАЛЛАДА О ЗАСНЕЖЕННОМ ПОЛЕ
О. Б.
Иду через снеги по стылому мёртвому полю,
Бреду по сугробам, как будто бреду по судьбе.
А сердце в неволе у милого имени Оля —
Ах, Олюшка-Оля, не снится ли поле тебе?..
Ах, снеги с отливом! На свете так много счастливых,
В кого-то влюблённых и кем-то любимых людей.
Бескрайнее поле. Зачем выпускаю на волю
Надежду и веру — продрогших моих лебедей!?
В метелице белой летают они ошалело,
Кричат обречённо в тягучей предсмертной тоске.
И коршун неверья терзает их белые перья,
И пух оседает на правом и левом виске.
В урёме загорской домов одичавшая горстка
Над полюшком белым белесые стелет дымы.
И белые снеги в какой-то таинственной неге,
Лениво кружатся последней позёмкой зимы.
БАЛЛАДА О СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
Я в юности мечтал построить дом:
В конце села, за кузней, над прудом,
И посадить под окнами рябину,
Чтоб снегири не пролетали мимо.
А в молодости я искал жену:
Красивую и статную княжну!
Чтоб жёнушка ходила по двору
И шлёпала незлобно детвору.
Устав от бесконечности дорог,
Решил найти укромный хуторок,
Купить за полцены осевший дом,
С окном в закат и с ивой над прудом.
Но жизнь была щедрей: она сама
Мне предлагала каждый раз дома
На перекрёстках шумных городов,
А заодно — и чьих-то шустрых вдов.
И потому — нет дома у меня
И не играет в прятки ребятня —
Так и живу надеждой и трудом,
Из песен строя развесёлый дом.
…А дом с рябиной — будет, как помру,
К нему слетятся птахи по утру
И прощебечут песенку о том,
Как я при жизни — не построил дом.
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Бредут, как странники босые,
К обрыву у степной реки;
Сквозь взгляды злобные, косые,
Сквозь слезы, крики, матерки.
Они — и молоды, и яры,
Они надеются пока.
Еще течет под крутояром
В урему тихая река.
Еще полвздоха и полшага.
И прозвучит команда: Пли!
И вздрогнут на краю оврага
И купыри, и ковыли…
И я проснусь. И станет жутко.
И вырвется из горла стон
На том нейтральном промежутке,
Где явь — не явь и сон — не сон.
В тот миг, подаренный судьбою,
В миг избавленья ото сна,
Не вдруг поймешь, что над тобою
Стреляет почками весна.
Что просто память виновата
В том, что из вешней тишины
Идут пленённые солдаты,
Идут — и не придут с войны.
ВДОВА
Жила вдова у нас в селе.
Пила вдова. Навеселе
Ходила павой, ласково,
Носила бусы баские.
Ах, Тоня, Тоня, Тонечка!..
Ушли года тихонечко —
Не лёгкие, не праздные,
Как подобает — разные.
Почти полвека минуло,
Как родину покинул я,—
Ушёл в края далёкие,
В свои дела нелёгкие.
Вернулся — встретил женщину
За пятьдесят, не меньше уж.
Глаза печально-ласковы,
На шее бусы баские.
—Не ты ли это, Тонечка,
Идешь, бредёшь тихонечко
По стёжке по кладбищенской —
Вся в чёрном, словно нищенка?
—Я,— отвечает Тонечка,—
Да ты ли это, Лёнечка?!
Сынка, Данилу милого,
Недавно схоронила я.
Сходил бы на могилку-то —
Вдруг от тебя Данилка-то!?—
Моргает слепо глазками —
Стара. А бусы баские.
ВИНА
Бывало, приедешь в родные края —
Спешит расспросить деревенька моя:
Как топал по жизни, где трактом, где вброд,
Хорош ли в столице прижился народ?
И я отвечал, что по-всякому жил —
Роднёй дорожил да Отчизне служил;
А что — ошибался, блажил иногда —
То всё, кроме смерти, — беда не беда!
А нынче вернулся в родные края —
Свинцово молчит деревенька моя.
И только за стопкою вымолвил сват:
«Москва виновата. И ты виноват.
Плетёте тенёта утопий и схем!..»
«Но я-то за что виноват, перед кем?!»
» Знать, плохо учили тебя, дурака:
Россия за нами! За нею — века!..»
Я только и вымолвил: «Вот тебе — на-а! —
Вот это планида, вот это вина!»
ВЫСОКИЕ ЗВЁЗДЫ
Звезда в ночи покоится, высокая звезда.
…Года мои, как конница, умчались навсегда,
Погибли под копытами весёлые цветы,
Но где-то, незабытая, живёшь на свете ты.
Стоит звезда над домиком высоко, далеко.
Звенит о дно подойника парное молоко;
От русской печи всполохи в зашторенном окне…
Ты, может, тоже вспомнила сегодня обо мне?
Но что теперь изменится — подумай-ка сама:
Все меньше дров в поленнице, а впереди — зима.
ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ
Любовь, как прошлогодняя полынь,
Ещё горчит и пахнет летним полем.
Я выпустил все радости на волю
И ты, моё смятение, отхлынь,
Не омрачай мой заповедный срок,
Не вороши страданья и потери:
Над прошлым — на погосте бугорок,
В грядущем — наказанье за неверье.
Но пусть проклятье не сорвётся с губ
За все мои утраты и печали!
Я прожил жизнь свою, как однолюб
К той, девочке, явившейся в начале,
Чтобы пропасть однажды без следов,
Судьбу пометив метой неземною.
Невинная, нездешняя любовь —
Она уйдёт последнею — со мною.
А все мои невольные грехи,
Никчёмные борения и битвы
Забудутся. Останутся стихи,
Как робкое творение молитвы.
* * *
Живу не свято, не богато — то тароват, то скуповат;
Не виновачу виноватых — сам перед кем-то виноват.
Вину забудут. Канут в Лету пороки, слава и слова.
Не важно, как живут поэты была б поэзия жива!
* * *
За окнами метель и дни идут на убыль,
А в комнате у нас уютно и тепло.
Но мечутся слова и ищут пятый угол,
И бьются головой в промёрзшее стекло.
Почти что каждый день — спектакль или экзамен
Где я всегда неправ, а ты во всем права.
Но истина давно доказана не нами:
Где властвует любовь — безмолвствуют слова.
Я больше не могу. Я распахну покои
И выпущу слова. И сам шагну в пургу.
Пусть люди говорят про долг и всё такое —
Я больше не могу! Я у любви в долгу.
ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ
Ю.В. БОНДАРЕВУ
В ночные часы уношусь в запределье из плена
Невзрачных открытий, нелепых забот и потерь,
И, кажется, тело моё не изведает тлена,
И можно примерить бессмертье —лишь только поверь!
Какие снега отмели и растаяли, Боже!
Какие леса повзрослели и сгинули вновь!
Лечу в запредельность, но знаю, что нету дороже
И горше понятья, чем эта земная любовь.
К ненастному небу, что станет доверчиво синим,
К пшеничному хлебу, что в землю зерном упадёт,
К моей терпеливой, задумчиво грустной России,
Которая вечно кого-то и что-то мучительно ждёт.
И к детям — моим, но с судьбой на мою непохожей,
К жене, разделившей со мною и горечь, и мёд.
Лечу в запредельность и думаю: праведный Боже,
Когда снизойдёт Он и русскую душу поймёт?!
Спускаюсь на землю, не веря в бессмертье и небыль.
Зарю предвещая, кричат петухи в полумгле.
Но вороны взмыли в ненастное плоское небо
И что-то случится сегодня опять на земле…
МУЗЫКА ЖИЗНИ
Задорная музыка юности так коротка.
Высокая музыка зрелости так быстротечна.
Великая музыка мудрости так не громка,
Но всё же, как солнечный мир, гармонична и вечна.
Мажорная молодость! К ней я упрямо тянусь,
Шагая короткой дорогой от зрелости к старости.
Весёлый мотив и минорная, тихая грусть,
Покуда я жив — не враждуйте, дружите, пожалуйста!
* * *
Не надо втихомолку плакать —
Засмейся, стон сдержав в груди;
Ещё не снег, а только слякоть —
Снег чист и бел. Он впереди.
Той женщины очарованье,
Её смятенье и надрыв —
Пока ещё не расставанье,
А испытанье на разрыв.
Не запирай дверей и окон,
Уединяться не спеши:
Пока ещё не одинокость,
А одиночество души.
* * *
Мы стареем медленно, но верно.
Посмотрю вокруг со стороны:
Этот сверстник был всегда примерным —
Заслужил высокие чины.
Этот — бабник. Вздорный и пустячный.
Тот — фанатик, эрудит, педант…
А один женат на генеральше
И живёт при ней, как адьютант.
Мы друг другу слабости прощаем.
Оттого зимой иль по весне,
Будто сны действительно вещают,
Кто-нибудь является ко мне.
Только ты молчишь. Легли меж нами
Годы, вёрсты, горы и леса.
Видимо, нашла коса на камень —
То ли камень треснул, то ль коса?..
* * *
Нестройный крик гусей в рассветный час.
Углами тянут на восход по сини…
Не всё то небо, что у нас в России,
Но, птицы, ваша родина — у нас!
С печалью вековой смотрю вослед:
Летят! — невозмутимо и спесиво.
Не вся та правда, что у нас в России,
Но вне России русской правды нет!
О СЛАВЯНСКОЙ ДУШЕ
Повелось издревле по России:
Поделом, порой не за дела,
Били в душу, душу выбить силясь,
А она, сердечная, жила!
А она, бывало, каменела,
Мрамором венчая скорбный прах.
Но, воскреснув, снова пламенела
На суровых северных ветрах.
Мучаясь, страдая, кровоточа,
Не сподобясь в Рай на небеси,
Шла она, от голодухи корчась,
Сирою вдовою по Руси.
По годам шагала, по эпохам,
И в какой-то из обычных дней
Становилось вдруг в России плохо
Всем, кто плохо думает о ней.
Но сгорало зло, перекипало,
Подобрев — вот тем и хороша! —
Вновь любила, пела, тосковала
Щедрая славянская душа.
ОДА КРЕСТЬЯНСКИМ РУКАМ
Умылась вешним половодьем,
Очнулась ото сна земля, —
И снова сеятель выходит
На вековечный зов в поля.
Земля!.. Кормилица-землица!
Я не устану никогда
И любоваться, и дивиться
Крестьянской мудростью труда,
Размахом нрава удалого,
Выносливостью добрых рук.
Давно ищу такое слово,
Чтоб гранями сверкнуло вдруг
И руки эти озарило,
В их первозданной красоте:
Какая нравственная сила
В их черноте, их чистоте!
Благословенны эти руки
На все года, на все века!
Без них исчезнут краски, звуки,
Оглохнут песня и строка;
Без них всё сущее на свете
Уйдет во мрак и пустоту.
Но как воспеть мне эти руки —
Их черноту, их чистоту?!
Как не лукаво и достойно
Воздать рукам по чести честь?..
Сильна Россия и спокойна
Пока крестьянин в поле есть.
ОДИНОЧЕСТВО
Кому исповедаться мне, рассказать про вину и беду,
Как вылить тоску, что больней раскалённого олова?
Иду я по городу юности, тихо, бесцельно бреду,
Повесив седую повинную буйную голову.
Быстрей бы добраться до первой свободной скамьи —
Но все они людом счастливым и добрым заселены.
То двое воркуют, то выводок целой семьи —
Да что они, право, сегодня — всё семьями, семьями?..
А я одинок в этом городе первой любви
И первой измены, где скрылась любимая женщина.
Но есть же горсправка: узнай, напиши, позови,
Садись на попутку и мчи бесшабашно и бешено.
Зря память в минувшее просит обратный билет:
Пишу лишь открытки корявым взволнованным почерком.
И каждая девочка, старше пятнадцати лет,
Мне кажется в Омске моею единственной дочерью.
Года утекли, миновали, — какие года! —
Четырнадцать вёсен и столько же горестных осеней.
Куда ты стремишься, зачем ты стремишься туда?
Не ты, а тебя тогда в юности предали, бросили…
Но сердцу невмочь, только сердцу ничем не помочь.
Ах, сердце моё! Что мы в жизни с тобой наворочали!..
Быть может, вон та, в белоснежном передничке, дочь?
Конечно, ведь все они чьи-то любимые, милые дочери.
ОДНА ЛЮБОВЬ
Одна, лишь только ты одна,
Моя беда, моя вина,
Моя тревога, забытьё
И счастье трудное моё.
Одна, лишь только ты одна —
Река широкая без дна,
Непроходимый тёмный лес,
Звезда, упавшая с небес.
Моя беда, моя вина, —
Ты видишь, всходит седина —
Жизнь впереди на срок бедна,
А ты одна, всего — одна!
Но ты такая у меня,
Что ночь приходит среди дня,
Что день сияет средь ночи —
Хоть смейся, хоть навзрыд кричи!..
…На руки — цепь. Клеймо — ко лбу.
Ведите к судному столбу;
Повесьте между двух столбов —
Одна, всего одна любовь!
* * *
Отпечален, отчален, отмучен —
От внезапной свободы продрог.
Что же делать? Честнее и лучше
Заплутать в лабиринте дорог,
Раствориться в метелице стылой,
Затеряться в глухой стороне,
Чтобы ты заметалась, завыла
Одичалой волчицей по мне.
Чтоб тебя от прозренья знобило
И, тщету свою бабью кляня,
Ты однажды себя разлюбила
И опять полюбила меня.
ПАМЯТЬ
Мне казалось, прошло, поросло-заросло повиликой,
Взорвалось и осело дорожною пылью у ног.
Есть у каждого в прошлом такое, что лучше не кликать,
Только разве на память навесишь амбарный замок?..
Как закрою глаза — вижу дальний покос, клеверище
И духмяные запахи низко присевших стогов,
Смолокурню в тайге, неказистое наше жилище,
Где в углу, вместо вешалки, ветви лосиных рогов.
У меня эта память — глубокая старая рана:
Чем я старше годами — тем чаще тревожит она.
Словно детство сиротское сходит с большого экрана
Кинофильмом, где в титрах зловещее слово «Война!»
Что мне фильм про войну! Мне в достатке пришлось наглядеться
На голодных сирот и на вдов измождённых, в слезах.
Что мне фильм про войну, если сына беспечное детство
Превращается в юность сейчас у меня на глазах.
Мой взрослеющий сын, хорошо, что твой мозг не отмечен
Тяжкой памятью слов и навязчивых снов о войне.
Только мне неприятны твои бесшабашные речи,
Что, мол, сны про войну оставляешь досматривать мне.
Что не видел воочью — во сне никогда не приснится.
Пусть тяжёлая память со мною уйдет навсегда.
Пусть на бранных полях колосятся ячмень и пшеница,
Пусть растут на могилах чебрец и степная трава-лебеда —
Пусть всё с нами уйдет! Мы на наших детей не в обиде.
Грех завидовать счастью и ставить потомкам в вину
То, чего не успел, не узнал, не увидел.
Об одном вас прошу: берегите родную страну!
Будет всякой она: часом — доброй, порою — немилой,
Справедливою будет, как исстари было, всегда.
Берегите Россию! В ней тесно солдатским могилам,
На которых цветы и степная трава-лебеда.
Ну, а если придётся однажды в шинели одеться
И уйти, как когда-то отцы, от любви, от весны,
Оплатите наш счёт за сиротское трудное детство,
За погибших солдат. и за вдовьи тревожные сны!
СЛУЧАЙНЫЙ СЮЖЕТ
Я подглядел, как женщина стояла
И вслед ему махала из окна.
С безвольных плеч сползало одеяло —
Опять одна.
Он шёл за мной мощёным переулком.
Догнал, спросил: не дам ли закурить?
В глухой ночи шаги звучали гулко —
Что говорить!?
Так, молча, шли мы полтора квартала.
Он повернул к подъезду. Чуть видна
В тени акаций, женщина стояла —
Ещё одна.
ПОЗДНИЙ ЦВЕТ
А девочки влюбляются в седых,
Задумчивых мужчин сорокалетних…
Влюбляются назло досужим сплетням,
Наперекор укорам молодых.
Что их влечет в наш грешный неуют,
Что ими движет в выборе рисковом?
Неужто по наитью сознают,
Что в мальчиках поубыло мужского?
А может, им надежно и тепло
От наших глаз, от наших душ усталых?
Наверно, испытаниям назло,
И чистота, и святость в нас осталась?..
Да, мы добрее наших сыновей,
Мудрее, человечнее и проще.
Но отсвистал знакомый соловей,
Отпел и улетел из желтой рощи!
И не схитрить, и не слукавить тут,
И лишних лет не вымолить. Поверьте:
Когда деревья осенью цветут —
Они цветут обычно перед смертью.
Встречать нелепо радостью беду —
Свою беду, идущую сквозь сплетни,
Но жду её, нетерпеливо жду —
Задумчивый, седой, сорокалетний!..
СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
3. Б.
Отцветает душа, как июльские травы, —
Сорок лет, словно сорок дорожных столбов:
Повороты налево, развилки направо —
На двадцатой версте остановка — любовь.
На двадцатой версте, у таёжной речушки,
Укрывали меня краснотала кусты.
В светлорусые косы вплетали подружки,
Словно девичью нежность, ромашки-цветы.
На цветах не гадал. Точно знал, что не любит.
Безответно страдал, да стишата кропал.
За спиною шушукались добрые люди:
Мол, пропал гармонист. Я и вправду — пропал:
Сколько брёл — не обрёл ни семьи, ни покоя,
Гладил русые косы, да всё не твои.
Над рекой Иртышом и над Волгой-рекою
Пели мне о любви не мои соловьи.
Сердце верно хранит ту любовь без ответа —
Это чувство в крови — хоть отравой трави!..
На земле очень мало счастливых поэтов —
Оттого-то так много стихов о любви.
* * *
Сознаюсь, самолюбию назло,
Что мне в любви чертовски не везло.
Ну, не везло и всё тут, Что за диво?
В любви поэты невезучи сплошь.
Пока научишься строке правдивой —
Десятки раз изранишься об ложь.
И возникает счастье из несчастья:
Пройдя сквозь ад измен и суеты —
Мы больше ценим верность и участье,
И до конца младенчески чисты.
И о любви, о совершенстве женщин,
Слагаем оды до седых волос.
…Поэтов бы намного было меньше,
Когда бы у поэтов всё сбылось.
СОЛОВЬИНАЯ ГРУСТЬ
Михаилу СИЛЬВАНОВИЧУ
Соловьи затихают над Волгой,
В майском мареве тонет их свист.
За рекою, наверно, надолго,
Закручинился гармонист.
Ах ты, песня, рожденная грустью! —
Не понять бы, унять бы, уйти…
В прикаспийском степном захолустье
Ты ко мне отыскала пути.
Может, ветром подуло с востока
В царстве зноя и камыша,
И, как облачко одинокое,
Прилетела ты с Иртыша.
Утомлённые ветлы сутулятся,
Замирает задумчивый плёс.
Только песня про омские улицы,
Только песня, родная до слёз.
И молчат соловьи, не отважась
Вить весёлые трели свои.
Как же мне не грустить, если даже
Ошалело молчат соловьи?..
Я ВНОВЬ ПРО ЭТО
Я вновь про это, вновь про это —
Я вновь про баб да мужиков.
Стоит в тайге за Тарой где-то
Деревня испокон веков.
(Быть может, дольше — кто упомнит? —
Ни Бог, ни мох на скатах крыш).
Там за усадьбой тётки Домны
Течёт река, река Иртыш.
За огородами кладбище —
Хоть в рай, хоть в ад — за полверсты.
Там, почитай, могил с полтыщи —
Звёзд мало, больше всё кресты.
А сколько наших загубила
Война?! Погибших на войне
Пересчитать, так звёзд-то было б
Побольше, чем крестов, вдвойне.
Там в тридцать третьем, вьюжном марте,
В избушке на краю села,
Под вечер повитуха Марфа
У Марьи роды приняла.
Так я, порядком мать измучив,
Явился, чтоб продолжить род.
— Орёт,— шептала мать,— живучий!
Орёт, варнак. Ну пусть орёт.
У нас в роду все громогласны —
Что песни петь, что матом крыть…—
Мать предрекала не напрасно:
Во мне мужичья стать и прыть,
И потому я вновь про это,
Я вновь про баб да мужиков.
Стоит в тайге за Тарой где-то
Деревня испокон веков.
Там в избах печи на полкухни,
А с фотографий на стене
Глядят Иваны да Петрухи,
Убитые на той войне
Глядят на радости, на муки,
На наши ссоры и пиры,
Глядят, как их медали внуки
Облюбовали для игры.
В медалях нет былого блеска,
Позеленели ордена.
Мол, что медаль — она железка,
Ей без Ивана грош цена.
Ах, эти внуки! Мог ли даже
Представить боевой комбат,
Как пьяный олух на продажу
Снесёт медали на Арбат.
И гнев в душе, и стыд за близких,
За тех, чья память коротка:
Стоят в России обелиски
И простоят ещё века;
И будут Русь печалить долго,
Былое в сердце вороша.
И будут помнить Днепр и Волга
Парней с седого Иртыша.
А потому выходит — рано
Пускать медаль на озорство —
Ещё болят сердца и раны,
И рано забывать Иванов
Иванам, помнящим родство!
Я вновь про это, вновь про это,
Я вновь про баб да мужиков.
Стоит в тайге, за Тарой где-то
Деревня испокон веков.
Таких — сто тысяч за Уралом.
Но для меня в деревне той
Россия, как в росинке малой,
С её суровой добротой.
ЦВЕТЫ И ТЕРНИИ ЛЮБВИ
(венок сонетов)
Ты женщина и этим ты права.
Валерий Брюсов
I
Лежу в траве. А в небе облака
Плывут, плывут, у горизонта тая.
Не так ли проплывали вдаль века,
Легендами и былью обрастая;
Не так ли, лёжа в мураве густой,
Мечтал когда-то пращур диковатый
И созревал в душе его косматой
Из древних слов поэзии настой?
И он хмелел от первозданных слов:
Роса, Россия, Женщина, Любовь.
Он изнывал от мысли окаянной.
За словом слово, за строкой строка.
А в небе так же плыли облака,
Поэзией и солнцем осиянны.
II
Поэзией и солнцем осиянны
Цветы и тернии, добро и зло.
И женщины, что так непостоянны,
Но женщинам в поэзии везло
На оды величальные, на стансы.
Ревнивые мужья и женихи
Страдали от притворного жеманства
И скрещивали шпаги и стихи.
О, женщина, язычница любви! —
То жар по крови, то душа в крови —
Причудливая, грешная, святая!
Неправая, ты всё-таки права,
Не потому ли нежные слова
Черемухою белой зацветают?
III
Черёмухою белой зацветают
И обретают истину слова.
Неоспорима истина простая:
Любовь бессмертна. Женщина права.
Права она, когда рожая в муках,
Извечно продолжает род людской;
Мудра она, когда качая внуков,
Испытывает сладостный покой,
Усталость отплодившегося сада,
Раздумье накануне листопада —
Она ещё прекрасная пока!
Хотя покрылся изморозью волос,
И потускнел, когда-то дивный, голос,
И взор туманит тихая тоска.
IV
И взор туманит тихая тоска
Старушки, в одиночестве скорбящей,
Чья с жизнью связь не толще волоска.
Она не в прошлом и не в настоящем.
Судьбе сопротивляться не вольна —
Иссохла, словно стебель чернобыла:
Трёх сыновей угробила война,
А про неё, видать, и смерть забыла.
Трёх сыновей, а дочь всего одна —
Красивая и статная она —
И в тридцать лет цветёт, не отцветая.
Дочь далеко. У дочери дела.
А мать жива, да словно умерла,
Знать оттого, что ласки не хватает.
V
Знать оттого, что ласки не хватает
Душа черствеет, чахнет день за днём.
И тает чувство, словно дымка тает,
И всё плотнее пепел над огнем.
И вырождается любовь в привычку,
И хуже ссоры равнодушный мир,—
Становится и скучным, и обычным
Боготворимый некогда кумир.
И ничего нельзя переиначить:
Живём, как будто бы без горя плачем,
Без радости танцуем и поём.
Всё реже плечи обнимают руки,
Всё чаще встречи горше, чем разлуки,
Ночами — одиночество вдвоём.
VI
Ночами одиночество вдвоём,
Подушка, орошённая слезами;
Окна лимонно-жёлтый окоём
Навязчиво торчит перед глазами.
Стучат на столике часы — тик-так…
Храпящий муж раскинулся устало,
Луна блестит, как стёршийся пятак,
А как когда-то при луне мечталось!
О, если б прошлое сейчас украсть —
В траве некошеной шальную страсть –
Уста в уста, всю ночь напропалую!
Но равнодушна, как стена, спина
И ночь до бесконечности длинна,
И тишина звучит, как аллилуйя,
VII
И тишина звучит, как аллилуйя,
Когда ночами мучишься один,
С тоской припоминая жизнь былую
От первых поцелуев до седин.
Припоминаешь небыли и были,
Людскую добродетель и порок,
Тех женщин, что тебя не впрок любили
И тех, которых сам любил не впрок.
Блажен, кто прожил жизнь достойно!
Несчастен, если совесть неспокойна
За то, что ласки крал и брал взаём,
За то, что сердце разрывал на части.
Мы цену человеческому счастью
Порою слишком поздно познаём.
VIII
Порою слишком поздно познаём
Мы цену легкомысленных ошибок,
Когда беспечно душу раздаём
За мишуру кокетства и улыбок.
Чужую похоть тешим, не любя,
Тоску за нежными словами пряча;
Оправдывая каждый раз себя
Тем, что зазорно поступить иначе.
Да, жизнь сложна. И я не обвиню
Изменницу. Лишь трезво оценю
Соперника ухватку удалую.
Любимую напрасно не порочь,
Когда уходит. И не превозмочь
Навязчивую горечь поцелуя.
IX
Навязчивую горечь поцелуя
Я часто ощущал в тревожном сне.
Я звал: «Вернись, тропинку устелю я
Черёмуховым цветом по весне!»
Не ты тот зов услышала. Другая
Пришла ко мне, за что-то полюбя.
А я и ненавижу, и ругаю,
А я люблю по-прежнему — тебя!
Мечусь ночами в оголтелом страхе:
Неужто поздняя любовь на плахе,
Неужто память сгубит доброту?!
Поймёшь ли ты: не дни потратил — годы,
Преодолел сомненья и невзгоды,
Чтоб обрести единственную — ту?..
X
Чтоб обрести единственную — ту,
Что нам нужна, мы часто куролесим,
Влеченье принимая за мечту,—
Нам трезвый мир обыденности тесен.
Нас радуга романтики влечёт,
Мы вдаль спешим, а счастье где-то рядом.
Мы не ведём годам и встречам счёт,
Предпочитая славу да награды.
Я часто рисковал и ошибался,
Взлетал и падал, больно ушибался,
Коварство принимал за доброту;
Карабкался наверх, срывался с кручи —
Болят ушибы — потому и учат:
Не путай с пустоцветом красоту!
XI
Не путай с пустоцветом красоту,
Осу с пчелой, смотри, не перепутай!
Когда весна, когда ты сам в цвету —
Легко всю жизнь перечеркнуть минутой.
А может, я был прав, что никогда
Влеченье чувства не смирял рассудком?.
Любовь — звезда. Падучая звезда —
Пока горит — светло, сгорает — жутко.
Но отчего так часто, до сих пор
Я сам с собой веду бесплодный спор —
Люби, покуда сердце не остыло!
Прости, Господь! А я себе прощу
И позднюю любовь не отпущу,
Иначе жизнь покажется постылой.
XII
Иначе жизнь покажется постылой,
Коль не внимать волнению крови.
Скажи, какая женщина простила
Того, кто отказался от любви?
И кто из нас к соблазну не причастен —
Проверить непорочность божества?
И, если честно — не бывает счастья
Без яростного плоти торжества.
Любовь грешна. Без ханжества замечу:
Я не вязал узлов при каждой встрече —
Не верю в прочность всяческих узлов!
Ханжа достоин не любви — презренья.
Пусть я сгорел. Но звёздное горенье
Я испытал. Мне в жизни повезло.
XIII
Я испытал. Мне в жизни повезло —
И пир любви, и радость вдохновенья.
А всё, что поддавалось на излом —
Пошло на слом и предано забвенью.
Но странно, где-то там, на дне души,
Гнездится прошлое и шепчет тихо:
«Отречься от былого не спеши,
Иначе в будущем придётся лихо!»
Любовь моя, прошу, на всякий случай,
Прости меня и ревностью не мучай,
Не говори обидных, резких слов!
Издревле в этом мире ходят рядом
Измена и любовь, тоска и радость,
Цветы и тернии, добро и зло.
XIV
Цветы и тернии, добро и зло
Переплелись в моём венке сонетов.
Где правил сам, а где меня несло
Под ветром вдохновенья по сюжету.
Снимаю парус. Впереди причал.
И говорю: любовь моя, спасибо!
Ты терпелива. Я не замечал,
Как иногда бросал тебя на глыбы.
У всякого начала есть конец.
Нет у венца? На то он и венец.
И я доволен, что хватило пыла,
Хватило голоса, хватило слов
Пропеть свою сонату про любовь —
Пускай теперь заходит старость с тыла!
XV
Лежу в траве, а в небе облака
Черёмухою бедой зацветают,
И взор туманит тихая тоска,
Знать оттого, что ласки не хватает.
Ночами одиночество вдвоём
И тишина звучит, как аллилуйя —
Порою слишком поздно познаём
Навязчивую горечь поцелуя.
Чтобы найти единственную — ту —
Не путай с пустоцветом красоту,
Иначе жизнь покажется постылой.
Я испытал, мне в жизни повезло:
Цветы и тернии, добро и зло —
Пускай теперь заходит старость с тыла!
ВРЕМЕНА И СРОКИ
Поэма
Напутствие в дорогу
Не под бичом расхожей темы,
Не под влиянием извне —
Впрягаюсь в тяжкий воз поэмы
Самостоятельно вполне.
И, втайне веруя в удачу,
Грызу строптиво удила,
Как приснопамятная кляча,
Что лишь работой и жила.
Не понукали, не просили,
Но взялся, сказано, за гуж —
Уверуй свято, что осилишь,
И докажи, что с возом дюж.
Не корчи из себя пророка.
Смотри на всё без суеты.
Не ошибись в оценке сроков —
За них ответственен и ты.
Не вздумай на волне скандала
Взлететь. Страна, в конце концов,
Немало умников видала,
Лжецов и просто подлецов.
Забыв истории уроки,
Не унимаются они…
О сроках я. А жизни сроки —
Они у нас почти одни.
Зря хорохорится придворный,
Привыкший хапать и хамить —
Загнётся, злыдень, без прокорма,
Посколько некому кормить.
Поэт, и ты не будь спесивым,
Стремясь достоинство сберечь:
Не о тебе, а о России,
О Государстве нашем речь.
Смотри вокруг, смотри под ноги
И пристальнее в даль смотри:
Над бесконечностью дороги
Трепещет алый стяг зари —
И лик Христа на стяге этом —
То правды свет и жизни цвет!
Для православного поэта
Иного не было и нет.
Раздумье в дороге
Сойду с попутки в роще древней,
Оплеч надену вещмешок
И заспешу к родной деревне,
В песок втыкая посошок.
Ступлю с растерянной улыбкой
На ту, заветную межу,
Но прежде, чем открыть калитку,
На старом прясле посижу.
Опустятся на травы росы
В вечерней зыбкой тишине,
И память тысячу вопросов
Задаст перед порогом мне.
Не раскалив подковы в горне,
Не распилив бревна на тёс,
Я часто толковал про корни,
Которыми в деревню врос.
Приятелям порой не ясно:
Зачем, по сути городской,
Я нынче заболел опасной
И новомодною тоской
По свежесмётанным зародам,
По разговорам у костра
И по общению с природой
Без тесака и топора?..
Не уличай меня, читатель,
Ни в лицемерье, ни во лжи.
Ты отругай меня, но, кстати,
Дурной цитатой не вяжи!
Не обвиняй меня в пристрастье
К мужицкой, лапотной Руси.
Но много ль от прогресса счастья —
Ты, брат, у совести спроси!
Спустись однажды ненароком
С крупнопанельной высоты
И осознай, что неким сроком
Явился из деревни ты.
Не нас ли в юности носило
И вдоль, и поперёк страны —
Мы были кочевой рабсилой
С десяток лет после войны.
Живали хорошо и плохо —
Тому, кто нынче скор на суд
Скажу: звала тогда эпоха
Нас в города. И в этом суть.
Крестьянин был всегда опорой
В благих делах. Не мыслю впрок
Иной замены, для которой
Когда-нибудь настанет срок.
Я не из тех, кто город хает,
Дудя в фальшивую дуду,
Лишь потому, что отдыхает
В селе у тёщи раз в году.
Такое чванство — вроде свинства
И непотребства за столом;
Нам не прожить без двуединства,
Без братства города с селом.
Поныне брежу: конским потом,
Парною первой бороздой,
Косьбою — лихо, с разворотом
И пьяно пахнущей скирдой.
Я знаю — скажут: — Вот затеял
Про косу, про коня. Беда!..
Чем хуже трактор? Не потеет,
И борозда так — борозда!
Да, механизмов нынче много —
Сбылись Чаянова мечты.
И всё равно в душе тревога:
Поубывало доброты.
Почти не слышно песни русской,
Не видно в поле помочей,
Нет вечеров с чайком вприкуску
И разговоров — не речей!
Глядишь, живёт — не дом, а чаша,
Но справное житьё-бытьё
Позаслонило слово «наше»
И снова выползло — «моё»!
А там — до наглости недолго,
Когда стыда в народе нет.
Глядишь —»Чароки», а не «Волга»
Не горница, а кабинет,
Где бар и банька за портьерой,
«Шестёрок» целый легион;
И, к завершению карьеры,
Почти премьерский пенсион.
Нашпиговав, на всякий случай,
Свой мозг цитатным ассорти,
Такой всю жизнь кого-то учит,
Вещает, Господи прости!
Непотопляемый, упругий,
Усвоивший почём почёт —
Саму поэзию в прислуги
Пристроил за народный счёт.
Чтобы, приплясывая, пела
Под свинг мажорная строка,
Чтоб ублажала только тело,
А ум — не трогала пока.
…Так думал я, на прясле сидя,
Не ощущая мир извне,
Пока сосед, меня завидя,
Неслышно подошёл ко мне
И прохрипел над ухом: — Здрасте,
Не ночевать ли вздумал тут?
Сидишь, как старый сыч, на прясле,
А дома сродственники ждут.
Твою депешу сам завпочтой
Намедни с вечера принес;
В жаровне преют гусь и кочет,
И с выпивкой назрел вопрос.
Застольный разговор
А пьют в Сибири здорово,
Размашисто, по-русски!
В пивнушках, под заборами,
С закуской, без закуски.
От слабости, от гордости,
С друзьями и без оных,
Глуша обиды-горести
Вином и самогоном.
Пьют, пропивая бешено,
Что пропивать не вправе:
Немеряный, невешаный
Кирпич, цемент и гравий.
Казённое — не личное:
У сторожа под носом
Сопрут трубу фабричную,
Да нет на дуру спроса!
Разнузданная силушка
И в штате, и за штатом.
Ох, Русь моя, Россиюшка,
Зачем ты так богата?!
В былом и настоящем
(Открыто, по подлогам)
Всё волокут и тащат,
А растащить не могут.
Я посмотрел — и родичи
Живут, видать, в достатке:
Понаставляли водочки,
Грибков, бруснички сладкой.
Сидят и улыбаются —
Красивые и разные.
Они, как полагается,
Семейно встречу празднуют.
Но вот, утратив бдительность,
Подзахмелев в застолье,
Похвастался родителю
Водитель, крестник Толя:
Отец, я ноне в городе
Толкнул машину леса! —
Тот матюгнулся в бороду
И локтем — в бок балбеса:
Цыц, нишкни, бестолковый! —
Но сын не внял угрозе:
А чё? Хлыста такого
Навалом в леспромхозе!..
Мамане взял серёжки,
А нам с тобой — по свитеру,
Да дубаку Серёжке
Транзистор. И… поллитру.
А на другом конце стола
Другие судятся дела:
Деды анализируют
Личутинскую прозу
И не симпатизируют
Пророкам и прогнозам
На то, что с нами станется
В ином, грядущем веке,
И что от нас останется
В российском человеке?..
Их мозг сверлит отчаянно
Иной вопрос, признаться:
Случайно, не случайно ли
Глупеет нынче нация.
Случайно, не случайно ли,
Нахально иль законно,
Свой лик несут начальники
В народ, аки икону?
Поглаживая бороды,
Толкуют, между прочим,
Что и в престольном городе
Умны теперь не очень;
Что верх забрали, якобы,
Там иудеи дошлые —
Воротят рыло к Западу,
Позабывая прошлое.
И что за сим последует? —
Помог бы разобраться.
Ответил я:
— Не ведаю,
Но будет худо, братцы! —
Тут вышла в круг задорная
Сестрёночка Наташа: —
А ну, давай «Подгорную»,
Али забыл, как пляшут? —
И поплыла по горенке
То павою, то уточкой,
Заворковала горлинкой
Да с прибауткой-шуточкой:
«Ты подгорна, ты подгорна
Широкая улица.
Нынче бабы кормят семью –
Мужики любуются.
Жизнь — малина-разлюли —
Мы купили «Жигули».
От стоянки до усадьбы
На буксире привели.
Ты подгорна, ты подгорна –
Лопухи вдоль улицы.
По тебе никто не ходит —
Ни петух, ни курица.
Если курица пройдёт,
То петух с ума сойдёт!..»
Я вышел на крыльцо, присел устало,
Видать, к дождю, гудели провода.
Над тополями матово блистала
Большая одинокая звезда.
Блистала по-над пажитью отцовой,
Как в юности далёкой. Как всегда.
Звезда Кольцова и звезда Рубцова —
Звезда полей, российская звезда.
Всполохи памяти
Рассветный час рождает эти строки.
Когда земля от сырости дрожит.
Минует память рубежи и сроки —
Бежит куда-то… В прошлое бежит.
Бежит, спешит к своей исходной точке,
Откуда начинался долгий путь.
Где даже нету изначальной строчки,
Где всё — потом, где всё — когда-нибудь…
А что тогда? Был флаг большой и красный
На тракторе, прошедшем вдоль села,
Был дедушка-лесник — седой и властный
И ласковая бабушка была.
И — мама. Разбитная, молодая.
И пёстрый луг, и морды лошадей,
И озеро, и сказочная стая
Больших и гордых белых лебедей.
Весёлые колхозные покосы,
Шуршащие, пахучие сена!
Косынки и сверкающие косы…
А что потом? Потом была война.
Война крестьян застала на покосе
Приехал в табор третьего звена
Под вечер водовоз, старик Абросим
И, заикаясь, выдавил: — В-война!
Бабёнки в слёзы сразу — охи, ахи,
А мужики — в дебаты о войне,
Хоть у самих холщёвые рубахи
Примёрзли к мокрой от жары спине.
И началось!
Повестка за повесткой,
В деревне пели,
плакали навзрыд;
Спешили стать солдатками невесты,
С отчаянья забыв девичий стыд.
Сердца у девок одурели с горя —
Сердца в беде не дружат с головой.
И не одной из них случилось вскоре,
Не став женою, сделаться вдовой.
Но им и похоронных не носили,
Им говорили пакости в лицо.
И вот живут теперь по всей России
Сыны солдат без имени отцов.
Да ладно, хватит. Только ли такое
Мы на войну списали в те года!..
Списали, но сознание людское
Не примирится с этим никогда.
Не оправдать любой войной суровой
То, как, бывало, выла детвора,
Когда у вдов последнюю корову
За недоимки гнали со двора.
Не позабыть, как сторож, дед Василий,
Насыпал на току зерна в пимы —
И старика за это посадили —
Он так и не вернулся из тюрьмы.
Солдату на войне хоть и не легче,
Но знал он: где свои, а где враги.
А тут насмотришься на горе женщин,
Загнёшь, как взрослый, матом в три дуги
И вроде бы отхлынет, полегчает…
У нас ведь как: молитва или мат.
Мать головой с упрёком покачает:
— Сынок, не лайся, Гитлер виноват!
…Какой дурак сказал, что бабы слабы?!
Когда б сбылось желание моё —
Я монумент бы отлил русской бабе
За силу и терпение её.
Такой, чтоб лоб от дум тревожных — в складку,
Чтобы в глазах надежда и печаль,
Чтоб воплощал он женщину-солдатку
С судьбой самой России на плечах.
Чтоб посмотрел — и вспомнил всё, что было,
Когда отправив в пекло мужика,
Она четыре года тяжесть тыла
Несла до омертвения в руках.
Чапыги сжав, плелась за клячей тощей
По борозде, с рассвета до темна,
Жизнь проклиная, верила наощупь,
Что всё пройдёт, что кончится война.
Весь хлебушко с осиротевших пашен
Везла на фронт, чтоб был солдат с едой, —
Всё отдавала, знала: это нашим,
Давясь ржаной лепёшкой с лебедой.
Она была опорою эпохи —
И швец, и жнец, и ратай на земле.
Ей было плохо. А кому не плохо?!
Несладко даже Сталину в Кремле.
На годы сделав кабинет Генштабом,
Он гнал полки стеною на стену,
И ласкового слова русским бабам
Он так и не сказал за всю войну.
А баба надрывалась. И едва ли
Ждала тех слов от грозного Отца —
Ведь всё, что говорил и делал Сталин,
Равнялось весу стали и свинца.
Нет, не ждала и скидок не просила —
Переносила скудное житьё.
Ведь наша баба норовом — в Россию,
Или Россия норовом в неё!..
Потом вернулись исподволь солдаты,
Уставшие от ратного труда.
Гуляли. И с похмелья виновато
Ворчали: — Заживёмся, не беда! —
Впрягались полегонечку в работу,
Шли к вдовушкам тайком навеселе.
Прижать бы мужичков, да уж чего там! —
Когда всего их семеро в селе.
Терпи, молчи — не мужики, а боги!
Цени, лелей — закон войны таков:
Их семеро пришло. Один безногий.
А уходило сорок мужиков!..
Довольно, память. Сделай передышку.
Полвека без войны — не малый срок.
Но мы, тех опалённых лет мальчишки,
Не позабыли страшный тот урок.
И старенькая мать не позабыла,
Как надрывалась, молодость губя.
И вспоминая нынче всё, что было,
Я судьбы русских баб писал с тебя.
Обращение к Москве
По прадедам — вятские, вроде,
Мы все — от сохи и Креста.
Замешана в нашей породе
На дури — сама доброта.
По праздникам горькую пили,
Горшки колошматили вдрызг.
Любили, но всё же — лупили
Бабёнок. За что? Разберись!
И, боли не выдержав боле,
Рубаху рванув до пупа,
На старосту пёрли с дрекольем,
Таскали за рясу попа.
И позже, на грани колхозов,
И ближе, на грани войны,
Мы шли в арестантских обозах
С виною, и так — без вины.
Но горькие наши судьбины
Пред милой Отчизной чисты:
Средь русых берёз по долинам
Маячат, маячат кресты!..
Мы — вятские, тульские, курские
Во всей полноте естества.
Почто нас не празднуешь, русская,
Престольная наша Москва?
На бранное поле и на дыбу
Мы шли, не боясь поредеть.
И надо бы, матушка, надо бы
О детях своих порадеть.
И надо бы, светлая, надо бы
Дружить с православной душой!
…Стоят обелиски, как надолбы,
Пред новою сечей большой.
Посевная
Запахло поутру весной
Землёй, сгорающим навозом;
Невнятно — липой и сосной
И ненавязчиво — берёзой.
На юной иве у пруда
К полудню вызрели серёжки,
У палисада лебеда
Сквозь прель высовывала рожки.
И, полоз к полозу сложив,
Сосед на лето прятал лыжи.
А воробей горланил: — Жив! —
Не веря до конца, что выжил.
Весна! Ещё одна весна.
А впереди-то много ль вёсен?..
Весна всё более красна,
Когда к тебе крадётся осень.
Что ж, сроки нашего житья,
В сравненьи с вечностью природы,
Малы ничтожно. Вот и я
Ценю оставшиеся годы.
За озарение зари,
За власть последнего причала.
Но вёсны — что не говори! —
Всему грядущему начало:
И человеческих судеб,
И смысла жизни, и понятья
Священных слов — Любовь и Хлеб
В тот самый главный срок — зачатья.
Не потому ли мой сосед
Рубаху новую примерил,
Чтоб встретить на поле рассвет
По стародавнему поверью:
Когда харчей полна сума
И чисто вымыта рубаха,
И борозда, как гвоздь, пряма,
И горсть овса — на радость птахам!..
И верно: бригадир с утра
К соседу постучал в окошко.
Затарахтели трактора,
Сосед в амбаре взял лукошко
И с посошком побрёл в поля,
Вдоль по меже неторопливо,
Где семена ждала земля
В изнеможении счастливом.
Как он красив, хоть стар и сед!
С почтеньем смотрят трактористы,
Пока по полюшку сосед
Идёт в рубахе снежно-чистой:
— Вот корень! — выдохнул племяш,
Тот самый, расторопный Толя, —
Гляди-ка, дядь, а старец наш
Похож на Льва Толстого в поле! —
…Старик вернулся. Борода
Трясётся, пар от плеч покатых.
Лукошко сбросил: — Ну, айда,
Пошёл! С почином вас, робята! —
И, сотворив земной поклон,
Устало вышел на дорогу,
И тут добавил: — С Богом, — он,
Хотя навряд ли верил в Бога.
Сосед был старый коммунист
С суровым довоенным стажем.
Он жизнь любил. Но деду жизнь
Не отлила медальки даже.
И вот сидит он, мой сосед,
Дымит, в раздумии понуром.
Бредут лениво на насест,
Квохча, линяющие куры.
А рыже-огненный петух
На гусака глядит с опаской…
Сидит и размышляет вслух:
— Отсеемся, а там и Пасха.
А там, поднимется трава,
Петровки — время сенокоса.
А доживу до Покрова —
Глядишь, оставлю зиму с носом.
Зимой негоже умирать,
Зимой с покойником морока…
Как жизни срок не выбирать,
Так умирать — не ведать срока.
Я долго жил и всё своё,
Что в жизни выпало, осилил.
Страшны не тлен и забытьё,
Горько прощание с Россией.
В такой вот день, такой вот час,
Когда душа на грани срыва.
Страна мне кажется подчас
Телегой на краю обрыва:
Толкни — и загремит она,
Ломаясь в жутком промежутке!..
Что, снова смута и война?
Не знаю, но порою жутко. —
Старик прерывисто вздохнул:
Пойду, костям пора на печку. —
…Вечерний ветерок пахнул
Дымком на ветхое крылечко.
Вдали гудели трактора,
А мне почудилось — баркасы
Идут по Волге. Что ж, пора
Ретироваться восвояси.
И как бы ни была мила
Моя родня, деревня эта —
Зовут в Москву меня дела
И словоблудье в кабинетах.
Я сторонюсь столичных склок,
Но не всегда терпим и скрытен —
Поскольку рецензент — не Блок,
А издаёт меня — не Сытин.
Вещий сон
Вчера, над строчкой среди ночи,
Зажало сердце — хоть кричи.
Чтоб я постромки рвал не очень —
Давно советуют врачи.
Чтоб жил ни шатко и ни валко,
Не громоздил заботы впрок.
А умирать, и вправду, жалко,
Не выбрав свой последний срок.
Мой срок, отпущенный природой,
Воздавший мне хулу и честь.
…А по России — недороды,
А за морями жито есть!
Потом мне думалось: доколе
Жить при богатстве и в долгу?
Потом во сне мне снилось поле,
Где жито спелое в снегу.
Потом, перед рассветным часом,
Во сне, а словно наяву,
Крестьяне ехали за мясом
И за одёжкою в Москву.
Магнитофон гоняют детки,
В картишки режутся отцы…
Вгляделся: Бог мой! — бабка с дедкой!
Крещусь: откуда, мертвецы?
Стыдливо жмутся: — Жили, были —
Давно скопытились, как есть.
Да разве улежишь в могиле,
Когда внучата просят есть?!
…Вскочил от страха и от боли,
Спросонья вертится строка,
Что жизнь моя, как жито в поле,
Ещё не сжатое пока.
Разговор перед обратной дорогой
Разговор старик начал с упрёка:
— Не мальчишка — муж, остепенись!
Всё летаешь, всё витаешь, сокол,
В небесах. Смотри, не срежься вниз!
Верный до конца устоям древним,
Он за грубостью скрывает грусть.
Он уверен твердо, что деревней
Изначальна и живуча Русь.
Я ему про море — он про зори,
Я ему про степь — он про тайгу.
Знал бы ты, как в радости и в горе
Помню всё и нежно берегу.
То, как мы траву в лугах косили,
Кислый квас в жару глотали всласть!..
Для меня великая Россия
С этой же деревни началась.
Я бывал в Крыму и на Кавказе,
Мне милы Литва и Беларусь.
Мне с друзьями повстречаться — праздник,
Расставаться с ними — боль и грусть.
Мы нерасторжимы, знаю чётко,
Оттого и утверждать берусь:
Вся страна от Бреста до Чукотки,
В основном, державном смысле — Русь.
Сотни лет мы жили, словно братья —
Не об этом думок веревьё:
Нынче перепутались понятья:
— Наше, ваше, общее, моё…
Государство, рассуждаю — наше.
Печь вот эта, стало быть, — моя
И моя в печи из гречи каша.
А тайга за окнами — ничья?
Оттого-то волокут и тащат
И жирует, множится жульё,
Что в ничьё оборотилось «наше».
— Раз ничьё, сам Бог велел — моё!..
Я хотел сказать ему: не прав ты,
Но хватился — нагрешу, солгу.
Изрекал старик святую правду —
Как же против правды? Не могу.
Эпилог, или баллада о колесе
Хороший человек придумал колесо:
Сидишь, слегка трясёт на бричке примитивной;
И сбоку видно всё, и сверху видно всё:
И стаю журавлей, и шлейф за реактивным.
Куда летит народ в заоблачном плену,
По делу ли спешит, не экономя денег?
Что видит на земле, сквозь дымки пелену —
Квадратики полей да ульи деревенек?..
Пожалуй, различишь: там — лес, тут — зеленя,
За лесом — озерцо, не более тарелки.
А видят ли коня, а видят ли меня?
Обидно, но едва ль, хоть и — мужик не мелкий.
Зачем они летят, откуда и куда?
Вот эти — из Москвы, а те, видать, обратно…
Что быстро — спору нет, но лучше — поезда —
Везёт, слегка трясёт — привычно и приятно!
Хороший человек придумал колесо:
С высот не разглядишь, что на земле творится.
А в этакой стране обязан видеть всё.
И даже сверх того — в запас, как говорится.
Обязан уважать величие страны,
Народа своего заботы и тревоги.
А если свысока, а если с вышины —
Не много разглядишь, да и поймёшь не много.
Всё меньше с высоты: уродливость дорог,
Безликость городов и метастазы поля;
Всё мельче свысока: причины для тревог,
И горе, и беда, и нестерпимость боли…
…Я уезжал в Сибирь, чтоб на короткий срок
Сбежать от суеты и бдений кабинетных.
Но вышло, что не впрок: в затерянный мирок
Врывался целый мир легко и незаметно.
Он настигал меня — то радиоволной,
То целился в меня в упор с телеэкрана,
Он картою давил со стенки за спиной,
Он корчился в песках Ирака и Ирана.
Тот мир предупреждал: витийствуй и витай
В раздумьях о стране. Но по стране летая,
Приблизься к рубежам: вот — мы, а вот — Китай —
Уж больно много там китайцев и китаек!..
…У Марьина бугра гудели трактора.
Пожаловал старик с чекушкою в кармане.
За стопкою сказал: — Тебе домой пора,
Я вижу, что опять тебя дорога манит.
Спокойно поезжай: здесь нет твоих корней —
И деды, и дядья навечно под крестами,
Не ты один, кому грустить остаток дней
И грезить вдалеке родимыми местами.
— Ты прав, старик. Мой дом теперь не здесь,
Свалился лес родни, сгноило корни время.
А что же есть? Москва. Россия. Совесть есть.
Есть память прошлых лет и есть раздумий бремя.
Пусть будет долгий путь, хоть изредка полог,
И пусть меня судьба не обойдёт на сроки.
И всё что написал — пока не эпилог,
А сонмище тревог, уложенное в строки.
Неси, не растряси, не сбрасывай с себя!
Неси, покуда жив, на выдохе и вдохе.
Страдая и любя, ликуя и скорбя —
Иди, покуда жив, по острию эпохи.